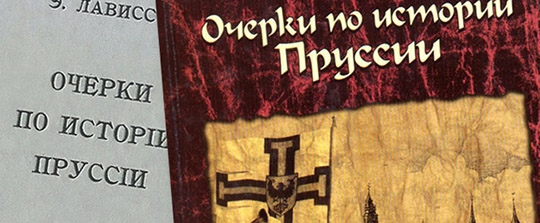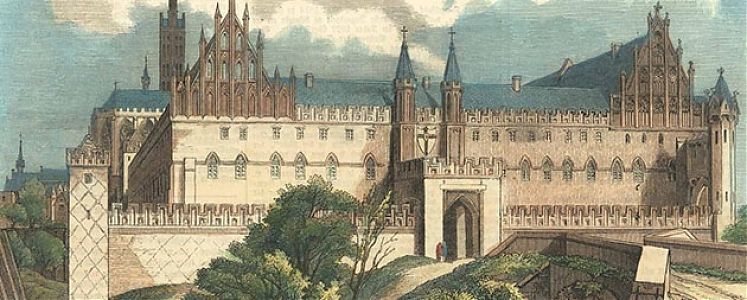Предшественники Гогенцоллернов в Пруссии

«Очерки по истории Пруссии», принадлежащее перу французского историка Эрнеста Лависса (1842–1922), впервые увидели свет на русском языке в 1915 году в московском издательстве Сабашниковых. В конце прошлого столетия «Очерки» были переизданы Калининградским издательско-полиграфическим объединением. В начале XXI века издательство «Янтарный сказ», адаптировав произведение к нормам современной орфографии и стилистики, выпустило свою версию. Оригинальный текст состоит из четырех книг. Представленная ниже вторая — «Предшественники Гогенцоллернов в Пруссии» — посвящена истории Немецкого (Тевтонского) ордена, покорившего языческую Пруссию и правившего в ней более двух столетий.
Завоевание Пруссии тевтонскими рыцарями
Судьба Тевтонского ордена
Иаков из Витриака рассказывает, что «один честный и набожный немец по внушению Божию построил в Иерусалиме, где он жил со своей женой, больницу для своих земляков». Это было в 1128 году. Если бы этому честному и набожному немцу, подобно патриарху Иакову или многим другим историческим и легендарным лицам, довелось увидеть пророческий сон, то перед его глазами развернулось бы удивительное зрелище. Больничные служители, не довольствуясь уходом за больными, берутся за оружие и превращаются в военный Тевтонский орден. Новый орден быстро догоняет в росте своих старших товарищей, храмовников и иоаннитов, и стяжает себе такое расположение у папы, императора и различных королей, что ему даются привилегия за привилегией и поместье за поместьем. Скоро замок его гроссмейстера становится одним из великолепнейших дворцов Палестины. Но вот картина внезапно меняется. Его тевтоны, в своих белых плащах с нашитыми на них черными крестами, сражаются уже не на берегах Иордана, а на берегах Вислы, и не с сарацином, одетым в белую шерсть, а с пруссаком, покрытым звериной шкурой. Они истребляют в этой борьбе целый народ, чтобы создать вместо него новый; они строят города, издают законы и правят несравненно лучше всякого государя в мире. Долгое время они процветают, пока, наконец, ослабев и изнежившись от богатства и счастья, не становятся жертвой одновременного нападения своих подданных и своих врагов. Тут основатель иерусалимского госпиталя увидел бы печальное зрелище: эти когда-то столь могущественные рыцари делаются вассалами Польши. Они не раз пытаются снова подняться; но все это тщетно, ничто не может спасти их, когда реформация нападает на старую веру средних веков и начинает гонение на культ Девы, вооруженными служителями которой они были. Сам их гроссмейстер становится последователем Лютера и превращает в наследственное герцогство ту землю, которую они завоевали у пруссаков во славу Христа и Его Матери. Но, по удивительной игре судьбы, эта узурпация открывает собой новую эпоху счастья, перед которым бледнеет все прошедшее.
Этот гроссмейстер родом Гогенцоллерн, и наследниками его являются бранденбургские кузены, которым суждено превратить герцогскую прусскую корону в королевскую и соединить ее затем с императорской.
Прусские короли, сделавшись германскими императорами, не забыли о происхождении своего могущества: на их знаменах красуется рыцарский орел; и в 1872 году Вильгельм I, закладывая в Мариенбурге первый камень памятника Фридриху II, с удовольствием слушает ученого оратора патриота,* который излагает перед своим «славнейшим и могущественнейшим императором, всемилостивейшим королем и государем» весь ход этой чудесной истории, начавшейся в Иерусалиме. Немного позже наследный принц прусский и германский присутствовал при открытии этого памятника: перед ним предстала статуя Фридриха II и статуи четырех гроссмейстеров, которые, находясь по сторонам пьедестала, как бы несут этого героя Пруссии. Сын императора Вильгельма, по-видимому, следил с интересом за теми поисками памятников и документов, касающихся истории Тевтонского ордена, которые ведутся теперь в Святой земле. И это понятно. Достигнув высшей точки счастья, люди охотно обращают взоры к его колыбели, а колыбелью прусской монархии был, конечно, этот госпиталь, основанный неизвестным немцем, quadam Allemanus, как говорит Иаков из Витриака.
Я изложу здесь один период этой истории, начиная с водворения рыцарей в Пруссии и кончая падением основанного ими могучего государства**. Это старая история, разыгравшаяся в глухой местности. Но не следует пренебрегать старыми историями: кто станет относиться к ним свысока, тот легко может проглядеть много важных сторон в самых крупных современных событиях.
* Г. Винтер, данцигский бургомистр, депутат в рейхстаге. Пользуюсь случаем выразить ему здесь мою живейшую благодарность за гостеприимство, оказанное им мне в Данциге, которым он управляет, уважая, в качестве историка, старые памятники и спасая их от разрушения, он в то же время превосходный администратор и заботится об удовлетворении всех нужд современного города. Винтер пригласил меня поехать с ним в его имение в Геленсе, недалеко от Торна, т.е. в те места, где впервые водворились тевтоны. Я многим обязан моему хозяину и путеводителю, превосходному знатоку древней истории страны, которую он мне показывал.
** I. Scriptores rerum Prussicarum, 5 vol., 1861–1874. II. Perlbach, Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, 1875–1876. III. A. L. Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen, 1872–1875. IV. G. Freytag, Vom Mittelalter zur Neuzeit, 1867. V. Treitschke, Das Ordensland Preussen, 1871. VI. L. Winter, Festrede am Tage der westpreussischen Säcularfeer, 1872. VII. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, 1858. VIII. Lotar Weber, Preussen vor 500 Jahren, 1878.
Старая Пруссия. Путешественники и миссионеры
Пруссы, истребленные в ХIII и ХIV веках тевтонскими рыцарями, были народом литовского племени с примесью финского элемента. Они жили на побережье Балтийского моря, между Вислой и Прегелем, несколько выступая за эти реки. Положение и природа этой страны таковы, что ее население долгое время могло жить совершенно спокойно в стороне от соседей. На западе Висла, которая тогда была шире, чем теперь, ежегодно наводняла свою дельту и загромождала ее льдами, которые с наступлением лета таяли, образуя море грязи. На севере, вдоль берегов, на различных расстояниях, тянутся нерунги, т.е. узкие и длинные полосы земли, покрытые подвижными дюнами, круто поднимающимися на 60–80 метров высоты между открытым морем и лагунами почти пресной воды, которые называются гафами. Это настоящие бастионы, и если с некоторых пунктов берега смотреть на горизонт, то появляющиеся из-за нерунгов корабли кажутся фантастическими зданиями, построенными на вершине отдаленных холмов. Кое-где бастионы эти прерываются и дают место каналам, по которым проходят суда; но каналы эти легко меняют местоположение — море то и дело засыпает одни и роет другие. К такому берегу не потянет никакого моряка! На востоке Пруссия менее закрыта; но соседняя Литва была заселена родственным пруссам народом, исповедовавшим одну с ним религию и являвшимся их союзником в борьбе против западной цивилизации. На юг, по направлению к Польше, местность вовсе не так свободна от преград, как обычно думают, представляя себе северную равнину совершенно плоской. Длинная цепь возвышенностей, правда, не очень значительных, идет от Гольштейна через Мекленбург, Померанию и Пруссию и, пересекши весь европейский far-east, примыкает к Уралу. У левого берега Вислы эти холмы повышаются, и путешественник, едущий из Берлина в Данциг, приближаясь к нему, видит перед собой неровную местность, где ручьи принимают характер горных потоков и местами даже образуют водопады. Турмберг, чья высота достигает 330 метров, — совсем большая живописная гора. Менее высокие холмы правого берега Вислы обрамляют Прусскую область с юга. Для этой местности особенно характерно обилие озер: их встречаешь тут на каждом шагу. Озера эти чаще всего очень невелики, но зато их столько, что нет почти места, откуда глазу не открывалось бы несколько их. Речек тут тоже достаточно. И притом вся эта ныне совершенно обнаженная местность в старые времена была густо покрыта сосновым бором, ограждавшим страну от вражеских вторжений.
История еще лучше, чем география, объясняет, почему область пруссов оставалась так долго в стороне от мира.
Римские легионы остановились у берегов Эльбы и потом отступили к Рейну. Более серьезная опасность грозила Пруссии со стороны Карла Великого, так как христианский император, защитник и служитель апостольской и вселенской церкви, думал завоевать весь мир и обратить всех неверных. Армия, ежегодно собиравшаяся вокруг него со всех концов империи, имела свои постоянные аванпосты на Эльбе: это были марки, военные округа, организованные для наступательных и оборонительных действий против славянского и финского населения, занимавшего восток Европы. Но Карл Великий умер, не перейдя Эльбы, и грозно вздымавшаяся над Пруссией и всеми восточными странами волна отхлынула назад. Германия, правда, осталась христианской; но тогда она была слишком занята своими внутренними распрями, которые волновали всю империю и довели ее в IХ веке до распада на три части. В более поздние времена императоры Священной Германо- Римской Империи не сочли достойным себя продолжать предприятия Карла Великого против безвестных народцев, и пруссы, отделенные от Эльбы всей шириной бассейна Одера, получили, таким образом, на долгое время отсрочку.
В конце IХ столетия их посетил один смелый моряк, Вульфстан из Шлезвига. Отправившись из шлезвигского местечка Гидабы, Вульфстан плыл семь дней и семь ночей до этой никому тогда неизвестной земли. Он рассказывает, что видел много городов, в каждом из которых было по королю, — маленьких городов, конечно, с маленькими королями. Потом, перемешивая, по наивной манере первобытных путешественников, самые разнообразные сообщения, он повествует, что в стране много меда, что там много ловят рыбы, что король и богачи пьют кобылье молоко, а бедняки и рабы — мед, что там часты междоусобные войны и вовсе нет пива. Больше всего его поразили прусские погребальные обряды. Труп покойника, говорит он, оставляют в доме на месяц, иногда на два, а если умерший был король или вельможа, то и на целые полгода. Жители сохраняют тела тем же способом, каким они летом остужают свои напитки. Но дом, где лежит покойник, не покидается обитателями: родные и друзья проводят там время в играх и попойках, которые устраиваются за счет наследства. Когда наступает, наконец, время нести тело на костер, собирают все, что остается из имущества умершего, и делят это на три неравные части. Самую большую помещают на расстоянии мили от города, самую малую совсем недалеко от него, а среднюю на половине расстояния между ними. Затем всем всадникам на 5 или на 6 миль в окружности дается знать о предстоящих погребальных скачках. Всадники собираются и скачут три раза на эти три приза. Вот что видел Вульфстан в этой стране, где добрая доля жизни уходила на погребение мертвых.
Но в Пруссию готовы уже идти совсем иные путешественники, которых влечет туда не любопытство и не жажда добычи. Христианство стало делать быстрые успехи среди славян с того дня, как пришедшие с востока апостолы Кирилл и Мефодий принесли в Моравию славянский перевод Евангелия и преподали этим язычникам Слово Божие на понятном языке.
В конце Х столетия Чехия и Польша уже приняли крещение, и можно было думать, что именно поляки передадут новую веру и западную цивилизацию пруссам. Сделай они это, история Восточной Европы приняла бы, может быть, совершенно иной оборот. Но, по крайней мере, первым миссионером Пруссии был все же славянин, св. Адальберт.
Адальберт происходил из знатной чешской семьи. Девять лет он учился в Магдебурге у знаменитого Отриха, которого современники называли саксонским Цицероном. Совсем молодым он был возведен на епископский престол незадолго до того основанной пражской епархии: Адальберт был вторым епископом чешской столицы. Его паства, еще не привыкнув к покорности, плохо мирилась с его строгостями, и епископ, оставив митру и посох, ушел от нее в Рим, где и поселился на Авентинском холме в монастыре св. Алексея. Там он подружился с оригинальной личностью, императором Оттоном, воспитанником трех ученых женщин — своей матери, бабки и тетки — и Герберта, этого ученика арабов и глубокого знатока философии, математики, астрономии и всех наук своего времени; писателя, механика, часовых дел мастера, натуралиста, настолько удивлявшего своими знаниями современников, что они видели в нем колдуна и считали его способным проникать в дома, не проходя ни в двери, ни в окна; лукавейшего политика, умевшего устраивать несколько предательств сразу; низкопоклонника из честолюбия, и наконец, папы, гордого величием римского первосвященника и мечтавшего вместе со своим учеником о каком-то удивительном возрождении древней Римской империи. Увлекаясь этими мечтами, Оттон называет Рим «главой мира» и «золотым городом», а себя августейшим римским императором, принимает титул консула и обращается в своих указах к римскому сенату и народу. При раздаче должностей, с которыми связана юрисдикция, он вручает каждому новому сановнику свод законов Юстиниана, говоря: «Суди по этой книге Рим и вселенную и берегись в чем-нибудь нарушить законы Юстиниана, моего священнейшего предшественника». Но вместе с тем Оттон — горячий христианин; мечтая о всемирной империи, он преисполнен стремления отречься от мира. Время от времени он покидает palatium romanum и живет то в какой-нибудь келье в Субиако, то в отшельнической пещере. Он ходит босиком на могилы мучеников. Но было бы гораздо лучше, если бы он служил Христу с оружием в руках на немецкой границе, где датчане, совсем было обращенные в христианство, возвратились к язычеству при сыне Гарольда Синезубого, между тем как эльбские маркграфы, эти Карловы стражи, забытые преемником Юстиниана, с трудом оборонялись от вендов.
Таков был тот мир, в котором Адальберт жил в Риме; мир без устоев, без жизни, где люди педантично погружались в созерцание развалин прошлого, как бы не ожидая ничего от будущего. Может быть, именно под влиянием господствовавшего здесь настроения и мысли о приближении светопреставления Адальберт и решился идти к пруссам, о которых он слыхал в Чехии, чтобы стяжать себе мученический венец и вместе с тем вечное спасение. В 997 году Адальберт прошел через Германию в Польшу. Он испросил себе у польского князя несколько человек провожатых и барку, спустился по Висле в море, поплыл вдоль берега и после нескольких дней плавания причалил к восточному побережью Пруссии. С ним вместе отправились священник Бенедикт и монах Гауденций. Им мы обязаны двумя главами в сказании о страданиях св. Адальберта, где ярко отражается чувство ужаса, оставленное в их душе воспоминанием о Прусской земле. Едва барка успела причалить, как матросы, высадив наспех своих спутников, сейчас же пустились в обратный путь, чтобы как можно скорее, под покровом темноты, отдалиться от этой безбожной Пруссии. Миссионеры тоже поддались чувству страха и несколько дней жили на берегу, не решаясь идти к язычникам. Но вот язычники услыхали, что какие-то странные люди явились в их землю «с того света», и пошли сами отыскивать наших апостолов. Адальберт сидел и читал Псалтирь, когда вдруг перед ним явилась толпа туземцев, «скрежетавших что-то дикое». Самый лютый из этих злодеев с бранью замахнулся «своей мозолистой рукою» на епископа и ударил его веслом. Книга выскользнула из рук Адальберта, и он упал, шепча: «Да благословен будет Господь в Его милосердии! Если мне больше и не придется пострадать во славу Распятого, то все же мне довелось принять этот драгоценный удар!» Удар не был смертелен, дикари хотели только напугать чужеземцев. «Убирайтесь! — говорили они. — А не то мы вас убьем!»
Три товарища отправились в путь и попали в местечко, где был рынок. На рынке толпился народ, и лишь только святой человек успел там появиться, как его сейчас же окружила гурьба этих песьих голов, разинув свои ужасные пасти. Они стали его допытывать, откуда он, кто он, чего он ищет и зачем он к ним пришел, когда они его не звали.
Эти волки жаждали крови и грозили смертью тому, кто принес им жизнь. Не дав ему сказать слова, они уже его передразнивают и издеваются над ним... «Говори!» — кричат они наконец, потрясая головами. Епископ в немногих словах говорит то, что обыкновенно говорят католические миссионеры в подобных случаях: он пришел вырвать своих братьев из рук дьявола и из пасти ада, открыть им истинного Бога и очистить их в купели спасения. Пруссы смеются над божественными словами, ударяют о землю своими палками, наполняют воздух ревом, но не трогают чужестранцев и только приказывают им удалиться. Поборник Христов считал жизнь себе в тягость, но между тем плоть его смущалась при мысли о смерти. Однажды он шел по морскому берегу, как вдруг перед ним выросла огромная волна, словно поднятая каким-то морским чудовищем, и с грохотом разбилась у его ног. Епископ весь побледнел, как пугливая женщина. Другой раз ночью Гауденций видел сон, что, отстояв обедню, отслуженную Адальбертом, он пошел было приобщиться из чаши, как вдруг причетник остановил его и сказал: «Не твоим устам дано пить из этой чаши жизни: она назначена епископу». Когда монах рассказал ему свой сон, Адальберт понял, что речь шла о чаше мученичества. Тогда "этот сын женщины» затрепетал при мысли о предстоящих страданиях и сказал: «Брат мой, дай Бог, чтобы сон этот предвещал только доброе!»
Чаша была, наконец, ему послана с небес. Гауденций отслужил обедню, и три товарища после трапезы легли спать на траве. Толпа пруссов под предводительством человека, у которого поляки убили брата, захватили их во время сна. «Пробуждение было не из приятных». Адальберта повлекли, «и плоть его, которой предстояло умереть, изменила цвет свой». Увидев палача, готового поразить его, Адальберт успел прошептать только: «Отче, да будет воля Твоя». Его товарищи, которых дикари пощадили, рассказывали потом, что в ту минуту, когда, пораженный семью ударами копий, он упал, связывавшие его веревки сами собой разорвались и руки мученика сложились крестообразно. Это было первое чудо св. Адальберта.
Из истории этого мученика мы ничего не узнаем о пруссах, и чтобы доказать необыкновенную свирепость этого народа, нужны иные свидетели, не Гауденций и не Бенедикт. История миссий в средние века представляет собой благодарнейшую тему: надо только, чтобы историк принял при этом за правило не становиться безусловно на сторону мучеников, а стараться честно представлять себе, что могло происходить в душе язычников при появлении миссионеров*.
Распространение христианской религии в Римской империи было вызвано множеством причин, и нетрудно еще понять, почему завоевавшие ее варварские племена быстро приняли веру населения, среди которого им пришлось жить. Но и тут уже нужно заметить, что только одни франки приняли эту веру во всей ее полноте, тогда как другие племена отвергли учение о св. Троице как несогласное с догматом божественного единства. Ничто не могло их принудить склонить голову перед римской церковью. Теодорих знал, что, продолжая отрицать равенство Отца с Сыном, он рискует погубить свое государство, но продолжал упорно стоять на этом. Накануне нападения Хлодвига Гундебальд, король бургундский, которого епископы, так сказать, приперли к стене, заставляя выбирать между покорностью церкви и войной с франками, с глубокой грустью решает лучше идти навстречу опасности, в которой он себя не обманывает, чем уверовать, как он говорит, в трех богов. А между тем, эти короли были окружены католиками: Кассиодор был при Теодорихе, Авит при Гундебальде — и сами говорили на церковном языке или, по крайней мере, понимали его. Насколько же сильнее должно было быть сопротивление дикарей, оставшихся в своих диких странах, когда какие-то чужеземцы стали к ним являться с проповедью католицизма. Представьте себе этих людей, которые оставались верны культу природы и продолжали обожать ее таинственные силы: пугавший их гром, благодетельные воды источников, кормилицу-землю, вековой дуб, который ежегодно вновь зеленеет и считается бессмертным. Вдруг к ним являются миссионеры: они оскверняют священные леса, тень и молчание которых чтятся дикарями; навьючивают белого коня, прорицателя в храме Святовита, бога священного огня; вонзают топор в корни дуба, ветви которого при колыхании ветром открывают людям волю неба. Они объявляют этот освященный веками культ, бывший культом наших предков арийцев, делом ада и сатаны и взамен немедленно принимаются излагать самые таинственные из догматов христианской церкви — о грехопадении и искуплении, о непорочном зачатии, о св. Троице и т. д. Можно себе представить, что должно было при этом твориться в головах варваров!
Зачастую эти миссионеры не знают даже языка тех, кого они собираются обращать. Они проповедуют знаками, они объясняют таинства христианской религии символическими изображениями и действиями. Такое наглядное обучение было, конечно, не очень удобопонятно.
Но и в тех случаях, когда миссионеры владели языком, — всегда ли они умели облекать свою проповедь в подходящие формы? Конечно, при рассудительности и искусных руководителях, вроде несравненного папы Григория VI, это им удавалось: стоит почитать наставления Григория англо-саксонским миссионерам, где он учит их, как осторожно надо устраивать переход от старых языческих обычаев к новой религии. Но далеко не у всех миссионеров находилось довольно терпимости и умственной гибкости, чтобы справляться с такой щекотливой задачей. Адальберт, например, говорит пруссам, что он явился затем, чтобы исторгнуть их из теснин Арверна; но пруссы нисколько не чувствовали себя в опасности погибнуть в этих теснинах. Эта проповедь напоминает увещевания, с которыми Клотильда, по словам Григория Турского, обращалась к Хлодвигу. Стремясь обратить его в истинную веру, она упрекала его за почитание идолов: а у франков их не было; за поклонение Юпитеру, этому stuprator vitorum, этому блудодею, кровосмесителю, женившемуся на родной сестре, так как Юнона говорит (у Вергилия), что она «сестра и супруга владыки богов»; а Хлодвиг только тут в первый раз услыхал, без сомнения, о самом Юпитере. Поэтому, ничего не понимая, он коротко отвечает Клотильде: «Твой Бог не из семьи Азов: значит, он не Бог». Тут Клотильда, в свою очередь, ничего не понимает. Этого разговора, о котором повествует турский епископ, может быть, вовсе и не было в действительности; но в этих словах, влагаемых историком в уста Клотильды, можно видеть одну из формул, составленных для миссионеров, когда им приходилось иметь дело с греко-римским язычеством, и оставшихся в употреблении при обращении германских язычников. Старые фразы живучи — может быть, они даже никогда не пропадают бесследно, — и если захотеть, то нетрудно представить множество примеров, когда не только язык, но и способ рассуждения миссионеров был совершенно непонятен их слушателям.
По этой причине большая часть миссий и осталась бы безуспешной без поддержки их политикой и силой. «Я совершенно бессилен, — говорит апостол Германии Бонифаций, — без покровительства франкских герцогов и внушаемого ими страха». Тридцать четыре года войны, избиений и массовых переселений понадобилось на то, чтобы обратить саксов; а по окончательном их замирении понадобился Саксонский Капитулярий, где смертная казнь стоит в каждой статье, и суровое правление епископов и графов. Язычники инстинктивно чуяли, что, защищая своих богов, они защищают свою свободу, и что, становясь христианами, они должны были стать подданными. При появлении миссионеров они знали, что следом за ними идет князь и что князь несет им рабство. Адальберт говорит пруссам, что он послан польским герцогом; но как раз польского ига пруссы и боялись пуще всего. Они вели с герцогом войну на границе, и самое убийство епископа-миссионера было кровною местью, так как брат его палача был убит поляками. Варвары охотно оставили бы миссионеров в живых, чтобы потом за их смерть не расплачиваться: дважды они приказывают этим неизвестным «выходцам с того света» уходить туда, откуда они пришли. Они считали их существами зловредными, и летописец влагает в уста этих дикарей примечательные слова: «Из-за этих людей земля наша перестанет давать жатву, деревья — плоды, животные — приплод, а какие родятся — сейчас же умрут». Пруссы ошиблись, ибо земля их способна была и потом давать урожаи, и даже неслыханные; но суждено было наступить дню, когда не осталось никого из пруссов, чтобы их собирать. Весь этот народ погиб, став жертвой католической цивилизации, оставил по себе только имя, присвоенное его победителями. И прав он был, говоря предшественнику тевтонских рыцарей: «Убирайся!»
* Образцом таких работ может служить статья Минье: La Germanie au huitième et neuvième siècle, в его Notices et mémoires historiques.
Завоевание Прусской области тевтонами
Адальберт умер, не успев обратить ни одной прусской души в христианскую веру; но вся Европа узнала, что один из ее епископов, друг императора, нашел мученический венец среди язычников, до того времени никому неведомых, и имя пруссов вышло из мрака неизвестности. С тех пор пруссы не знают покоя: с севера на них нападают датчане, с юга поляки. Ни те, ни другие, однако, не достигли прочных результатов, и кризисы безначалия, периодически повторявшиеся в Польше, постоянно спасали пруссов. Сами они обычно держались строго оборонительного образа действий: когда враг на них нападал, они скрывались в лесах, выжидали там, когда он начнет отступать, и затем пускались его преследовать. В середине ХII века королю Болеславу IV, после одной победоносной экспедиции, удалось обложить их данью; но они сейчас же снова отказались платить ее, а когда он еще раз пошел войной на их страну, то почти вся армия его там погибла. То была последняя крупная война, и в начале ХIII столетия Пруссия все еще оставалась независимой и языческой.
Пруссы были не из тех врагов, которыми можно пренебрегать. Правда, они были разделены на одиннадцать народцев, но их связывала общность религии. Петр Дуйсбургский сообщает нам, что у этого ужасного народа был свой папа, Криве, который жил в местечке Ромове — имя, происшедшее от Рима, прибавляет он с той смелостью фантазии, которая отличает средневековых писателей в их этимологических построениях.
«Действительно, подобно тому, как владыка наш папа управляет вселенскою церковью верных христиан, так повелениям Криве повинуются не только пруссы, но также ливы и литовцы. Великому жрецу незачем всюду являться лично: посол, которому он даст свой посох или другой какой-либо условный знак, встречает везде тот же почет, как и он сам», Мертвые были ему преданы не меньше живых: прежде чем отправиться в будущую жизнь, все они «проходили» через его дом, и потому родственники умерших постоянно к нему являлись спросить, не видал ли он в такой-то день такого-то. Жрец, не колеблясь, описывал покойника, его одежды, его лошадей и служителей, которых сожгли вместе с ним, и даже показывал дыру, которую пробил своим копьем, проходя у него, этот переселенец в другой мир. Так как пруссы были очень набожны и не предпринимали ничего, не спросив совета своих богов, то авторитет таинственного главы их духовенства был очень велик. Криве жил и процветал в глубине священного леса в то самое время, когда великий папа Иннокентий III председательствовал в Латеране на соборе епископов и посланников всех христианских государств. Германия под управлением Гогенштауфенов сияла ярким блеском рыцарской цивилизации; в Париже высилась Notre-Dame, св. Людовик собирался строить Sainte-Chapelle, и был основан университет, куда со всех концов Европы стекалась жаждавшая знаний молодежь, чтобы послушать профессоров, рассуждавших de omni re scibili et guibustdam aliis; а пруссы еще не понимали, что на куске пергамента можно передать свою мысль человеку, находящемуся совсем в другом месте, и тайны арифметики им были настолько чужды, что для счета они делали зарубки на куске дерева или завязывали узлы на своих поясах.
Между тем христианская цивилизация уже надвигается на них со всех сторон — медленно, но неудержимо. Скандинавские государства становятся христианскими с ХI века. В ХII веке общими усилиями маркграфов бранденбургских, герцогов саксонских и королей датских христианство учреждается в Бранденбурге, Мекленбурге и Померании, а Померанская область — соседка Пруссии: их разделяет только Висла. Польша, примыкавшая к Пруссии с юга, давно уже приняла крещение. Наконец, в Ливонии Альбрехт Буксгевден, этот епископ и рыцарь, отвоевал у язычников свое рижское епископство и основал орден Меченосцев, атрибутами которого были шпага и крест на белой мантии. Как же тут было Пруссии сохранить свою независимость и свою религию? Никакому народу нельзя безнаказанно так резко отличаться от своих соседей. Цивилизация, т.е. сумма идей, принятых большинством народов данной области в данную эпоху касательно отношения человека к Богу, форм правления и общественного устройства, не отличается терпимостью по отношению к диссидентам, будь то отдельные лица или целые народы. Она постоянно стремится подавить всякое индивидуальное сопротивление в среде отдельной нации и привести к общему уровню слишком самобытные племена. Дело ее, быстрое в эпохи быстрого обращения идей, в средние века шло медленно, но не останавливалось. Она двигалась тогда с запада на восток: с родины своей, Италии и Франции, она проникла в Германию, в северные страны, в Польшу и на отдаленные берега Балтийского моря, так что в ХIII веке Пруссия была уже охвачена ею со всех сторон и являлась исключением, которое больше не могло быть терпимо.
В начале ХIII столетия была сделана новая попытка обращения пруссов. Монах Христиан, выйдя из померанского монастыря Оливы, этого христианского аванпоста, расположенного всего в нескольких верстах от языческой земли, перешел Вислу и построил на правом ее берегу несколько церквей. Этого было достаточно, чтобы папа принял всю страну под покровительство св. Петра и Павла и поставил Христиана епископом Пруссии. Но новую епархию нужно было еще завоевать, и чтобы доставить епископу солдат, папа велел проповедовать крестовый поход против северных сарацинов. Прежний крестоносный пыл уже стих к этому времени, и рыцари не раз успели показать, что им больше нравятся крестовые походы поближе. Хотя папы и жалели об этом, но им волей-неволей приходилось соображаться с условиями времени и так же щедро давать индульгенции бургундским рыцарям-крестоносцам, шедшим на альбигойцев, или саксонским рыцарям, поднявшим крест против пруссов, как прежде Готфриду Бульонскому или Фридриху Барбароссе. «Путь недлинен и нетруден, — говорили проповедники альбигойских походов, — а добыча богата». Так же говорили и проповедники крестового похода против пруссов.
Несколько ополчений ходило против северных сарацинов, но походы эти ни к чему не приводили: крестоносцы являлись, жгли и грабили все, что встречали на пути, и затем удалялись, предоставляя христианские церкви мести доведенных до отчаяния пруссов.
В 1224 году дикари избивают христиан, разрушают церкви и переходят за Вислу, чтобы сжечь монастырь Оливу, и за Древенцу, чтобы грабить Польшу. Польское королевство было тогда разделено между сыновьями короля Казимира; один из них, Конрад, владел Мазовией и как сосед Пруссии должен был вынести на себе всю тяжесть самой ужасной из войн, какие только Польше приходилось против нее вести. Не полагаясь более на неправильную и опасную помощь со стороны приходивших издалека крестоносцев, он вспомнил, что епископ ливонский, основав у себя рыцарский орден, получил таким образом в свое распоряжение постоянную крестоносную армию, и послал просить помощи у гроссмейстера тевтонских рыцарей.
Призвание немецких рыцарей польским князем было событием чрезвычайной важности в истории Польши. На этой стране, очевидно, лежала обязанность передать христианство народам по Одеру и Висле. Но чтобы и самой можно было прожить сполна свой век, в своих естественных пределах, между Богемскими горами и морем, Польша должна была крепко держать в руках Силезию и Померанию и отнюдь не допускать немцев утвердиться в Пруссии как в крепости, среди славяно-финского населения. Но Польша ни в один из моментов своей истории не делала того, что ей нужно было бы делать. В средние века у нее были свои часы величия и блеска; но у нее никогда не хватало терпения ни на то, чтобы научиться управлять собою, ни на то, чтобы держаться долго одного плана в своих завоевательных стремлениях. Ее феодальная конница, стоявшая лагерем на открытой всем ветрам равнине между Вислой и Одером, то и дело вылетает из своих пределов и носится то на Эльбу, то на Днепр, то на Двину. Было бы гораздо лучше, если бы вместо этого она сосредоточила свои силы на покорении одной Пруссии: ибо тот день, когда Конрад Мазовецкий, признавая свое бессилие, призвал тевтонских рыцарей против Пруссии, подготовил падение Польши.
Гроссмейстер, к которому обратился Конрад, был Герман фон Зальца, искуснейший политик ХIII столетия, без участия которого не обходилось ни одно крупное событие. В эту эпоху беспощадной борьбы между империей и папством, когда два главы христианского мира так жестоко ненавидели друг друга, когда папа отлучал императора, а император низлагал папу, когда тот и другой не жалели оскорблений, сравнивая своего противника то с Антихристом, то с самыми гнусными апокалипсическими тварями, Герман сумел остаться не только другом, но даже доверенным человеком и Фридриха, и Григория IХ. Такого человека всегда опасно приглашать к участию в каком-нибудь политическом предприятии из-за доли в выгодах: он всегда постарается щедрой рукой отмерить себе эту долю — иначе, на что же ему нужна была бы его ловкость? Конрад Мазовецкий и Христиан Оливский надеялись, без сомнения, что тевтонские рыцари за свои услуги удовольствуются уступкой им какого-нибудь клочка земли, который можно будет при случае у них и отобрать; но вскоре они заметили, что ошиблись в расчетах. Конрад предлагал ордену Кульмскую область, между Осой и Древенцой. Она была предметом вечного спора между поляками и пруссами, и ее тогда нужно было еще завоевать. Герман ее принимает, но просит императора, чтобы он дал свое разрешение на принятие этого дара, да кстати, прибавил к нему и всю Пруссию.
Император, в качестве владыки мира, уступает гроссмейстеру и его преемникам исконное право империи на горы, равнины, реки, леса и море in partibus Prussiae. Затем Герман просит согласия папы, и папа, в свою очередь, не только отдает ему эту землю, на которую, по его мнению, никто, кроме Бога, до сих пор не имел права, но при этом еще приказывает проповедовать крестовый поход против неверных.
Он повелевает рыцарям поднять на пруссов священное оружие и поражать их до полного покорения всей их страны, а князьям — всячески помогать ордену. Позднее, после первых побед, папа снова объявит Пруссию собственностью св. Петра и снова передаст ее ордену «в полную и ничем не ограниченную собственность», угрожая всякому, кто осмелится посягнуть на это владение, «гневом Всемогущаго и Его апостолов св. Петра и Павла»*.
В 1230 году все приготовления были окончены, и война началась. Когда пруссы в первый раз увидели в рядах поляков этих всадников, одетых в длинные белые плащи с резко выделяющимся черным крестом, они спросили у одного из пленников, что это за люди и откуда они пришли. Пленник, — рассказывает Петр Дуйсбургский, — отвечал: «Это набожные и храбрые рыцари, посланные из Германии владыкою нашим, папой, сражаться с вами до тех пор, пока ваши непокорные головы не склонятся перед нашей святой церковью». Пруссы много смеялись над притязаниями этого владыки-папы. Рыцари были не так веселы. Гроссмейстер, посылая Германа Бальке, которого он облек званием «магистра Пруссии», сражаться с язычниками, сказал ему: "Будь смел и тверд, ибо ты введешь сыновей Израиля, т. е. твоих братьев, в землю обетованную. Бог да будет с тобой!» Но печальной показалась эта обетованная земля рыцарям, когда они увидели ее впервые из замка, расположенного на левом берегу Вислы, недалеко от Торна; замок этот носил звучное имя Vogelsang (пение птиц).
«Стоя маленьким отрядом перед бесчисленным множеством врагов, они пели песнь скорби, ибо они покинули дорогую родину, землю мирную и плодородную, и шли в страну ужаса, в обширную пустыню, где бушевала страшная война».
Эта страшная война продолжалась 53 года. В наш план отнюдь не входит излагать ее историю во всех подробностях. Надо заметить, что это было бы очень нелегкой задачей, с которой и сами немцы не успели еще справиться. В своем замечательном издании Scriptores rerum prussicarum они дают, правда, все дошедшие до нас свидетельства об этом крупном событии. Но, к несчастью, самый полный, толковый и обстоятельный из старых историков Пруссии, Петр Дуйсбургский, жил веком позже описываемых им событий; притом же он был священником и членом ордена — это отразилось не только в его пристрастном отношении к рыцарям, но и в самом взгляде на смысл всей борьбы: верный узкоцерковному духу, он видит в ней только святое предприятие Божиих воинов против неверных. Его легенды прекрасны, и так как чудесное не может более вводить нас в заблуждение, то мы их охотно ему прощаем. Но он не церемонится и с фактами, раздувая одни и совсем обходя другие, если они для него неудобны; он преувеличивает на каждой странице число крестоносцев и язычников, благодаря чему дает совсем неверную картину завоевания Пруссии. С другой стороны, он увлекает своими достоинствами — легкостью, занимательностью и, можно даже сказать, прелестью своего изложения. Вот почему даже современные немецкие историки подчиняются его авторитету, и завоевание в их рассказах представляется нам великой драмой в нескольких актах, в которой громадные силы сталкиваются друг с другом в гигантской борьбе. Эти историки привносят в свое описание колорит прекрасной и мрачной поэзии севера, с восторгом рассказывая о зимних походах, когда лед трещал под копытами рыцарских лошадей, и рисуют тот мистический патриотизм, который заставляет их самих восхищаться всем немецким, даже немецкой грубостью и жестокостью.
Они видят в немце орудие какой-то сверхъестественной силы, какого-то особого Провидения, специально покровительствующего немцам, но не безразличного и для остального мира, ибо всей вселенной суждено быть преобразованной силою немецкого гения.
Нет сомнения, что немецкие рыцари и колонисты стояли выше покоренных или вытесненных ими пруссов, и нужно быть крайне предубежденным, чтобы, сравнивая страну, описанную Вульфстаном, со страной, управляемой орденом, не удивляться необыкновенному делу, которое совершили эти немцы, вышедшие из всех областей Германии и из всех классов ее общества. Но в интересах истины приходится признать, что история этого полувекового, медленного завоевания вовсе не так поэтична, как ее обыкновенно представляют.
В эпоху наибольшего могущества ордена, т.е. около 1400 года, Пруссия насчитывала 1000 рыцарей. В ХIII столетии число их было значительно меньше, в особенности в начале завоевания, когда члены еще очень слабого ордена были рассеяны по Германии, Италии и Святой земле. «Хроника ордена», написанная, по-видимому, ранее Дуйсбурга и лучше него осведомленными людьми, говорит только о мелких войнах, во время которых немногочисленные рыцари, не получая поддержки от своих собратьев из немецких командорств и не полагаясь на колонистов, запирались в крепостях и были рады, если их слабым гарнизонам удавалось поддерживать между собой сношения по Висле. Десять лет спустя после начала войны, когда уже было основано много городов, рыцари из Кульма три раза посылали в Реден просить о д н о г о рыцаря прийти к ним на помощь. Потом они отправили послов в Германию, к своему гроссмейстеру, в Чехию и в Австрию, заявив, что все пропало, если им не дадут подмоги. В ответ на это к ним прибыли десять рыцарей с тридцатью лошадьми — и этого было достаточно, чтобы Кульм стал ликовать. Что касается крестоносных ополчений, которые часто посылались в Пруссию папскими буллами, то они никогда не бывали так многочисленны, как рассказывают старые летописцы, доходящие, по живости своей фантазии, до забавных преувеличений. Когда Дуйрсбург утверждает, что чешский король Оттокар проник в глубь Самбии с армией в 60 000 человек — такой массе там, разумеется, немыслимо было ни двигаться, ни кормиться, — то надо считать, что он прибавляет два лишних ноля. Соразмерно с этим увеличивается до невозможности и число врагов. Одна ливонская хроника говорит, что самбийцы могли выставить в поле 40 000 человек. Но вся эта страна занимала не более 1700 кв. верст и была густо покрыта лесами, где водились бобры, медведи и зубры; трудно допустить, чтобы в ней приходилось более 20 жителей на квадратную версту — все население Самбии можно исчислять разве что в 34 000 человек. Итак, завоевание Пруссии, население которой не должно было превышать тогда 200 тысяч душ, было делом очень небольшого числа рыцарей; при этом им помогали еще маленькие ополчения крестоносцев и поставленные на военную ногу колонисты. Превосходство вооружения, делавшего из каждого рыцаря нечто вроде подвижной крепости, лучшая тактика, искусство фортификации, разъединенность пруссов, их беспечность и свойственная всем дикарям неспособность предвидеть будущее и заботиться о нем — все это объясняет конечный успех завоевания, а незначительность привлеченных к войне сил делает понятной продолжительность борьбы.
Завоевание это двигалось вперед, как волна прилива, то набегая, то снова отступая. Когда приходила армия крестоносцев, орден распускал свое знамя. В путь отправлялись осторожно, посылая вперед особых, хорошо обученных своему делу лазутчиков. Враг почти всегда бывал захваченным врасплох.
Войско занимало какой-нибудь искусно выбранный пункт, на холме, откуда открывался свободный вид на окружающую местность, и принималось копать рвы и строить палисады. Так возникала крепость, у подножия которой размещалась деревушка. В деревушке этой, в которой каждый дом строился как блокгауз, селились пришедшие с крестоносцами колонисты. Это были рабочие или земледельцы, покинувшие родину в сопровождении своих жен и детей и с крестом на груди явившиеся искать счастья в новой земле. С работами надо было торопиться, ибо ни один такой крестовый поход не продолжался более года. Когда крестоносцы уходили, крепость немедленно подвергалась нападению жаждавших мести врагов. Им нередко удавалось взять ее приступом и сжечь, и тогда они, разорив деревушку, снова захватывали только что покоренную немцами территорию. А рыцари, запершись в своих замках, с тревогой ждали известий о прибытии новой помощи. Эти приливы и отливы повторялись так часто, что к ним волей-неволей приходилось приспосабливаться. Немцы строили на крутых холмах и на островах убежища, где колонисты искали приюта при всяком сигнале тревоги, и эти стремительные отступления повторялись так часто, что кабатчики получали особые привилегии «для себя и с в о и х п о т о м к о в» на продажу крепких напитков в местах убежища.
Первые, и в то же время самые прочные, свои поселения рыцари основали на Висле, в том углу, который она образует между устьями Древенцы и Осы. Кульм и Торн были заложены ими уже в 1232 году. И теперь еще Кульмерланд переполнен памятниками, красноречиво говорящими об эпохе завоевания, и путешественника там ждут поразительнейшие впечатления, о которых редко кто в самой Германии имеет должное понятие. В октябре 1877 года, оставив железную дорогу в Тересполе, недалеко от левого берега Вислы, я шел к парому, на котором переезжаешь реку против Кульма. Вечерело. На востоке небо было покрыто серыми и черными тучами, громоздившимися друг на друга; но на западе горизонт горел прозрачно-золотистым светом, и там до мельчайших подробностей вырисовывался тот обрывистый холм, где высятся колокольни Кульма. Переехав реку, вы по крутой дороге поднимаетесь к городу, который Висла с одним из своих притоков так охватывают, что город кажется . гористым островом, брошенным среди бесконечной равнины. Обогнув часть старинных городских стен, вы попадаете в длинный и узкий подземный ход, с массивными сводами, который выводит вас внутрь города. Там вы, не помня себя от изумления, переходите от древних церквей, гордо поднимающих к небу свое высокое чело, к ратуше, которая со своей сквозной башенкой как-будто явилась сюда из Италии, пока не попадаете, наконец, в новую часть города с ее унылообразными домами. Эти церкви и ратуша говорят вам о мощных рыцарях, принесших на прусскую почву воспоминания со всех концов мира; а новые дома, выстроенные при Фридрихе II по присланному из Берлина плану и выровнявшиеся как шеренга солдат, представляют собой, рядом с поэтическим величием обладавшего мощной фантазией старого века, прусскую прозу и дисциплину. И такими противоположностями полна вся эта страна между Кульмом и Торном, которую я изъездил по совершенно невозможным дорогам, где лошади должны месить копытами живую грязь: прусское правительство не слишком заботится о своих восточных провинциях, что, с его стороны, может быть, и не совсем благоразумно. Когда вы стоите на этой слегка волнистой равнине, усеянной маленькими озерами и громадными валунами, под которыми древние пруссы погребали пепел своих мертвых, то почти всегда глаз ваш открывает где-нибудь на обширном и мрачном горизонте силуэт колокольни или развалины. Это будут то массивные каменные стены Папау с обложенными кирпичом стрельчатыми арками; то Кульмзе, маленькая деревушка у подножия двух колоссальных церквей с могучими башнями, высящимися над порталами; то, наконец, Торн. В Торне дивишься остаткам замка с его циклопическим фундаментом и могучими стенами, которые до сих пор хранят следы пожара, разрушившего замок в ХV веке; ратуше, представляющей собой один из самых гордых памятников немецкой городской архитектуры; трем церквам, где кирпич совершает чудеса. Филолог и историк заинтересуются в них двумя любопытнейшими надписями: одна считается прусской, но до сих пор не прочитана, другая писана по-арабски и служит орнаментом одного из порталов.
И каким жалким кажется настоящее, когда глядишь на эти могучие памятники прошлого, которые так же пристали окружающим их городам и деревушкам, как пристало бы вооружение саженного рыцаря хилому ребенку.
После покорения Кульмской области завоевание пошло по Висле, вдоль которой возникли крепости, командующие над всем ее течением: Торн, Кульм, Мариенвердер и Эльбинг. Вместе с тем, рыцари получили возможность сноситься морем с Германией. Это было для них важно, так как на суше они были отрезаны от нее славянским княжеством — Померанией, представлявшим собой ненадежного соседа. Поморяне смотрели на утверждение немецких завоевателей в славянской земле с беспокойством, имевшим свои основания. Война, объявленная ордену князем Святополком в 1241 году, стала сигналом для возмущения пруссов; оно длилось одиннадцать лет и было ужасно. Рыцари победили, и шум этой победоносной борьбы привлек новых крестоносцев, среди которых появился в 1254 году чешский король Оттокар. Тогда в первый раз христиане проникли в священный лес Ромове; тогда же был построен Кёнигсберг — городской герб, где изображен рыцарь в шлеме с короной, так же, как и самое имя города, до сих пор хранят память о чешском короле. Оттокар рассказывал потом о себе, что крестил целый народ и перенес границы своего государства до Балтики. Но это была только похвальба, за которой вообще не стояло дело у шумливых, но ленивых средневековых славян. Зато рыцари, пользуясь как нельзя лучше приходившей к ним подмогой, вели дело завоевания самым настойчивым и серьезным образом. Едва было усмирено первое восстание, как они послали колонистов за Куришгаф и основали там Мемель. В 1237 году они принимают в себя орден Меченосцев, завоевавший Ливонию, и начинают мечтать о господстве над всем восточным побережьем Балтийского моря, вдоль которого их владения тянутся уже почти на 100 миль**.
Но прусская земля вовсе не была еще замирена, и через семь лет после похода Оттокара там все опять было готово к новому восстанию. В лесах проходили тайные совещания, великий жрец снова заявил о своем существовании, и дубы заговорили. Дети знатных пруссов, отданные орденом в монастыри на воспитание, бегут тайком на родину. Рыцари чувствуют приближение грозы и надеются предотвратить ее жестокостями. Один из сановников ордена приглашает к себе на обед большое общество знатных пруссов, казавшихся ему подозрительными, поит их допьяна, потом уходит, запирает за собой дверь и, как говорит Дуйсбург, обращает в пепел и замок, и пруссов. Но все это ни к чему, мятеж вспыхивает еще ужаснее, чем в первый раз. Магистр Ливонии разбит литовцами, Курляндия освобождается, померанские князья, забыв о своем крещении, помогают пруссам против немцев. Замки ордена падают один за другим, и в продолжение десяти лет несчастья следуют за несчастьями. Наконец, утомившись и понеся огромные потери, мятежники начинают слабеть. Но рыцарям понадобилось еще десять лет, чтобы возвратить утраченные территории. Избиение пруссов идет при этом не прекращаясь, и борьба окончилась только тогда, когда ятвяги — маленький народец, живший в самой глубине лесов за главными озерами этой местности, — признали себя побежденными и, не желая подчиняться игу рыцарей, перешли со своим вождем, грозным Стардо, в Литву. Над этим уголком земли, где славяне оказали последнее, отчаянное сопротивление врагу, и там, где некогда теснились деревушки ятвягов, теперь расстилается Иоганнисбургская пустыня.
Эпоха этой борьбы является героическим веком ордена. В эти ужасные годы рыцарей поддерживала вера. Замок их осажден, им неоткуда ждать помощи, и они бьются с отчаянием в сердце; голод заставляет их есть лошадей и сбрую, — но тем пламеннее молитвы, которые воссылают они Богоматери.
Прежде чем броситься на врага, они каются, подвергая себя при этом беспощадному бичеванию. Охваченные экстазом, они молят небо о чудесах. И чудеса не заставляют себя ждать — весь Дуйсбург полон рассказами о них. Накануне одной из самых кровопролитных битв с восставшими пруссами Дева Мария является одному рыцарю, который особенно усердно служил ей, и говорит: «Герман, ты скоро будешь с Сыном Моим». На другой день Герман, бросаясь в самые густые ряды врагов, сказал товарищам: «Прощайте, братья, мы больше не увидимся! Матерь Божия призывает меня в мир вечный!» Один прусский крестьянин, видевший эту битву, где рыцари были обращены в бегство и грудами падали под ударами врагов, так закончил свой рассказ о ней: «Тогда я увидел женщин и ангелов, несших на небо души братьев; ярче всех сияла душа Германа в руках Святой Девы». Другой раз, вечером, после битвы, жена одного из колонистов, видя, что муж ее не возвращается домой, пошла разыскивать его на поле сражения. Она нашла его еще живым, но не могла уговорить подняться и идти с ней. «Я только что видел Святую Деву, — сказал он, — две жены сопровождали ее, неся светильники, а она шла и кадила над телами умерших; подойдя ко мне, она сказала: «Радуйся! Еще три дня, и ты вознесешься в жизнь вечную». И раненый хотел умереть на поле битвы.
Крепкое племя были эти завоеватели. Один рыцарь износил на своем веку несколько кольчуг; и многие не снимали с себя вериг ни днем, ни ночью. Колонисты — мужчины и женщины — были того же закала, как и рыцари. По общему правилу, жены погибших на войне должны были немедленно снова выходить замуж за первого попавшегося холостяка, ибо выше всего ставилось спасение колонии. Однажды в Кульме две женщины, идя в церковь, увидели совсем оборванного, но очень хорошенького мальчика, игравшего в бабки. Обе захотели взять его с собой. Поднялся спор; наконец, более ловкая успела его оттягать, отвела к себе в дом и прилично одела. Затем «священник обручил эту интересную чету, а с течением времени была сыграна и свадьба. История этих двух женщин, отбивающих друг у друга мужа по дороге в церковь в пустынном городке, представляет одну из разительнейших черт всей истории этого края, где требования «борьбы за существование» возвращают христиан ХIII века к условиям первобытной жизни.
К концу века колонисты и рыцари окончательно выиграли свое дело. Их замки и города прочно утвердились на прусской почве — и остаткам побежденных никогда уже не шевельнуться. Сначала завоеватели щадили пруссов, оставляя за крестьянами их свободу, а за знатью — ее положение, если только те принимали крещение. Они отдавали туземных детей учиться в монастыри; но воспитанные там пруссы явились потом самыми опасными врагами рыцарей. За то во время восстаний и после них побежденные были поставлены совершенно вне закона. Огромное число их немцы истребили мечом, а оставшихся в живых расселили по разным округам, где разделили их на классы уже не по степени знатности, а по прежнему их поведению относительно ордена, разбив, таким образом, сразу и связь их с родной землей, и старый общественный строй. Орден оказывал некоторое внимание тем из прусских знатных родов, которые не участвовали в восстаниях и тем заслужили себе право на свободу и почет. Он брал также пруссов на некоторые общественные должности; но число этих привилегированных лиц было ничтожно, масса же побежденных очутилась в положении, близком к рабству.
Эти христианские завоеватели не хотели видеть в побежденных даже просто людей с такой же душой, как у них самих, о спасении которой следовало бы подумать. С самого начала войны папа жаловался, что рыцари оставляли пруссов пребывать в язычестве, и орден сохранил до конца это равнодушие.
Дуйсбург, описывая древние нравы пруссов, рассказывает, что гостеприимство считалось у них неполным, если весь дом — муж, жена, сыновья и дочери — не напивались допьяна вместе со своим гостем; что жены у них являлись не более как купленными служанками, которые не обедают даже с мужьями и каждый день моют ноги хозяину и прислуге; что мировая сделка в случае убийства допускалась только после того, как убийца или кто-нибудь из его близких сам падал под ударами родственников жертвы.
Эти обычаи ХIII века мы находим в силе и в веке ХV. После того поражения, которое заставило орден стать вассалом Польши, гроссмейстер Пауль фон Русдорф предпринял исследование причин глубокого падения своей страны и просил всех сведущих лиц высказать об этом свое мнение. Один картезианский монах написал тогда нечто вроде увещания, где он упрекает орден за его грехи, и прежде всего за поведение относительно простого народа, особенно же пруссов, которых он называет бедными пруссами. Пруссы, — говорит этот свидетель, — сохранили свои языческие обычаи, и как же могло бы быть иначе? Их господа говорят священникам, которые думают обратить их в христианство: «Пусть пруссы остаются пруссами». Они мешают им ходить в церковь, обременяют барщиной даже в праздники и заботятся только о том, чтобы вымотать из них как можно больше денег · и работы. Они на каждом шагу берут с них клятвы и на каждом шагу вводят их в клятвопреступление, ибо этот грех, влекущий за собой вечное осуждение, искупается ничтожною пенею. Они допускают в дни прусских свадеб сатанинские танцы, где женщины одеваются мужчинами; из-за этого умножаются убийства, «обычные в Пруссии», ибо вера так низка, что дешевле убить человека, чем купить лошадь. Убийства чаще всего случаются на оргиях, когда целые семьи перепиваются и вступают в драку друг с другом. Этот картезианский монах, друг ордена, говорит то же самое, что и его враги. Примерно в то же время епископ познанский обвиняет рыцарей, что они оставляют две трети пруссов в заблуждениях язычества и посылают этих варваров на войну против своих христианских соседей. Действительно, орден постоянно брал пруссов в солдаты, и наборы не меньше, чем рабство, способствовали вымиранию туземного населения. Надо прибавить к этому, что пруссы, как всегда бывает в подобных случаях, сохранив все свои варварские пороки, очень скоро переняли и многие пороки победителей. Под влиянием этих разлагающих начал, к которым в ХV веке присоединились еще опустошительные войны, главной своей тяжестью падавшие как раз на туземцев, народ прусский начал очень быстро таять. Кажется, что вплоть до ХVI века в некоторых деревнях священники еще нуждались в толмачах для перевода своих проповедей на народный язык. Мало того, мы в эту эпоху застаем еще остатки язычества: мы слышим о ночных собраниях, на которых языческие жрецы приносили козлов в жертву древним божествам. Но в ХVI веке прусский язык совершенно исчез. То, что теперь от него осталось, представляет собой такой же предмет ученых филологических изысканий, как и остатки древнегреческих наречий. Целый народ был уничтожен, чтобы очистить место немецкой колонии.
* Между прибытием первого польского посольства и началом завоевания прошло несколько лет. Отсрочка эта отчасти объясняется сложностью занятий гроссмейстера и участием его в крестовом походе Фридриха II; но, несомненно, и сам Герман вовсе не хотел спешить: заставляя подождать требуемой помощи, он рассчитывал сделать герцога Конрада и епископа Христиана более податливыми на его условия. Христиан сначала мечтал создать себе из Пруссии такое же независимое княжество, как у Альберта Буксгевдена в Ливонии: Герману хотелось, чтобы рыцари послужили ему только нужными для завоевания солдатами. За те годы, которые отделяют отправку посольства от начала завоевания, он попытался создать новый военный орден, непосредственно ему подчиненный, — Добринских братьев. Если бы этот орден выжил и продолжал вербоваться, как то было вначале, в славянских землях, судьба Пруссии могла бы совершенно измениться: Пруссия стала бы не немецкой, а польской колонией. Но орден развивался недостаточно быстро, опасность грозила настойчиво, и Христиан, обеспечив за собой богатые владения и важные прерогативы, вынужден был совершенно отказаться от всяких верховных прав над тевтонами, от всякой над ними юрисдикции и от права взимать десятину в завоеванных землях.
** Слияние двух орденов было тоже делом Германа фон Зальца. Епископ Альберт и меченосцы очень быстро достигли необыкновенных успехов в своих предприятиях. Но еще при жизни Альберта крупные опасности стали угрожать существованию основанного им ордена. В Ливонии верховная власть принадлежала епископу, а не ордену. Недовольные этим меченосцы стали требовать себе особых привилегий и части завоеванных земель. Епископ должен был сделать им важные уступки. Сверх того, немецкой колонии угрожали литовцы и русские. Сильно теснимый этими врагами, Христиан призвал себе на помощь датчан. Скандинавам эти страны уже раньше были знакомы, и, придя туда, они вскоре под предводительством Вальдемара сделались грозными соперниками ордена. В 1219 году Вальдемар заложил Ревель и овладел частью Эстонии. После смерти Христиана затруднения еще увеличились: литовцы и русские стали нападать с удвоенной силой. Вальдемар, который на некоторое время лишился было своих владений, снова потребовал себе Эстонию. В самом ордене дисциплина была совсем расшатана, и он, по-видимому, стоял на грани распада. Тогда меченосцы отправили посольство к тевтонским рыцарям, предлагая им слиться с ними. Герман по обыкновению не торопился. Он вовсе не хотел получить от меченосцев в наследство все их запутанные отношения. Особенно не нравилась ему война с Данией. Он ждал, чтобы какая-нибудь крупная неудача меченосцев в войне с литовцами Сделала их более сговорчивыми, так как сначала они и слышать не хотели об уступке северной Эстонии датчанам. После поражения, испытанного меченосцами в 1236 году, папа из Витербо, где при нем был и Герман, сам повелел слиться обоим орденам в один. Когда дело было кончено, Герман сообщил меченосцам, что он взял на себя обязательство возвратить Эстонию Дании. Протестовать было слишком поздно. Меченосцы образовали особое отделение в Тевтонском ордене, и Ливония получила своего отдельного магистра. Соединение двух орденов было вообще событием крупной важности, а для нас оно имеет особый интерес, потому что в этой старой истории выступают на сцену и немцы, и скандинавы, и русские, т. е. все главные участники борьбы из-за Балтийского моря, которая началась в средние века, продолжалась в новое время и не кончилась еще до сих пор.
Эпоха могущества Тевтонского ордена
Гроссмейстер в Мариенбурге
Весь прусский город Мариенбург — это один сплошной памятник былого величия рыцарей, но поразительнее всего в нем — два замка Тевтонского ордена. Древнейший из них образует прямоугольник в 60 метров длины и 53 метра ширины. Его высокие стены были некогда прорезаны двумя рядами стрельчатых аркад, но, к несчастью, их замуровали, приспосабливая старый дворец к его новому назначению — служить хлебным амбаром. Не менее пострадала и церковь замка: иезуиты разукрасили ее вычурной резьбой с факелами, пылающими сердцами и разными другими католическими нелепостями. Среди этого распущенного рококо сохранились на хорах дубовые кресла рыцарей; одно из них, принадлежавшее гроссмейстеру, прикрыто дубовым навесом. Снаружи церковь, чистый готический стиль которой остался неприкосновенным, представляется гигантской ракой, врезанной в здание дворца. За алтарем огромная, ослепительных красок мозаика, в восемь метров вышины — изображает Деву Марию с Младенцем Иисусом, которого она держит шутя, как перышко, на левой руке.
Это мощная женщина, дышащая не милосердием, а грозной силой, как и подобает покровительнице тех тевтонов, от которых она приняла в жертву целый народ, не пролив ни капли милости в их сердца.
Второй замок образует собой трапецию, раскрытую со стороны первого, к которому он примыкает самым большим своим флигелем, имеющим 96 метров длины. Противоположный флигель заканчивается павильоном гроссмейстера, построенным очень причудливо: над тяжелым нижним этажом из каменных плит с шестью контрфорсами и всего одной очень низкой дверью поднимаются шесть легких аркад на колонках. Во всей этой верхней части, вплоть до городчатых краев огромной черепичной крыши, темный кирпич оживляется украшениями из белого камня, которые входят в вырезки крыши и ее окаймляют. Образец постройки был взят из Венеции: это настоящая венецианская архитектура, которая чарует своей прелестью даже тогда, когда дает несообразное соединение хрупкого с массивным. Новому замку посчастливилось больше, чем старому: его реставрировали. В нем есть три дивные залы: в двух меньших весь свод спускается в виде сталактитов на один приземистый гранитный столб, и чудится, будто этот столб бросает струю воды, которая летит вверх, раскидывается сводом и скатывается по стенам правильными завитками. Три более стройные колонны, увенчанные лепными капителями, поддерживают свод большой залы, которая освещается с одной стороны четырнадцатью высокими стрельчатыми окнами.
Реставрация этого замка является делом почитателей родной старины. Упрекнуть их можно, пожалуй, в том, что они чересчур уж не щадили замазки и краски. Нельзя не пожалеть также, что на стеклах окон красуются имена и гербы вкладчиков, принимавших участие в покрытии расходов: исторические памятники не на то созданы, чтобы служить счетной книжкой пожертвований в пользу истории. Нужно было бы также убрать со стен развешанные на них литографии и фотографические карточки разных господ в сюртуках. Маленький походный алтарь гроссмейстеров в этом дворце у себя дома, но как не идут к нему ковровые кресла или вышитый прусской принцессой платок, который сторож вынимает из шкафа и со знаками глубокого уважения показывает посетителям. Может быть, со временем в этом замке устроят собрание всех предметов, дошедших до нас от рыцарских времен: это стоило бы труда. С какой стороны ни взгляни на замок — со двора ли, с набережной ли Ногата, откуда павильон гроссмейстера кажется высокой и мрачной зубчатой крепостью, увенчанной башнями, или от подножия статуи Фридриха, перед которой развертывается главный фасад, — он производит глубокое впечатление, заставляя изумляться тому, как дух человеческий может преобразовывать камень. Ибо тевтонские рыцари, эти странники, остановившиеся, наконец, у берегов Вислы, соединили в своем дворце, представляющем смешение сарацинской, итальянской и немецкой архитектуры, отголоски Палестины, Германии и Италии. Историей этих монахов, вооружившихся на защиту церкви и превратившихся во властителей, дышит весь этот гигантский памятник — монастырь, крепость и дворец одновременно.
В этот самый Мариенбургский замок и перенес свою резиденцию тевтонский гроссмейстер в первые годы ХIV столетия*. Неверные отняли у христиан в Святой земле все владения до последней пяди, и рыцарским орденам приходилось покидать край, где они возникли.
Какая участь ожидала их? Породили их крестовые походы, т.е. война, предпринятая против неверных обладателей Святого Гроба всем христианским миром без различия народностей по призыву главы церкви, который был тогда могущественнее императора и королей. Эти монахи, которые являются то больничными служителями, то солдатами, то ухаживают за больными и ранеными, то лихо рубят сарацинов, были истинными сынами милостивой и воинствующей церкви средних веков, каким был и Людовик Святой, умывавший ноги беднякам и находивший, что в споре с неверными нет лучшего довода, чем хороший удар шпагой. Духовно-рыцарские ордены были проникнуты универсальным духом церкви: по крайней мере, иоанниты и храмовники не принадлежали ни к какой стране, и если у них было отечество, то это была Святая земля. После ее потери они не испытывали недостатка в местах убежища, так как им принадлежали бесчисленные владения в Европе.
Но как Европа изменилась! В то время, когда зарождались военные ордены, королевская власть во Франции скромно начинала свое поприще. Филиппу I, королю — грабителю купцов, наследовал Людовик VI, мировой судья и жандарм, вечно рыскавший по горам и долам, потевший под своей броней перед крепостями и возбуждавший восторги Сугерия, который с гордостью сообщает нам, что его короля боялись даже в глубине Берри. В то время, когда стала закатываться звезда рыцарей, торжество королевской власти во Франции было делом почти законченным. Филипп Красивый занят был тем, что отбирал у англичан захваченные ими королевские земли и у феодалов — захваченный ими королевский авторитет. Его советники и он сам питали холодную ненависть к прошлому и презирали его представителей. Германский император вздумал заявить свои старинные права на бургундские лены и города. На тяжелые разглагольствования германской канцелярии Филипп отвечает такими простыми словами — латинскими по звучанию, французскими по духу: «Nimis germanice — это чересчур по-немецки». Папа вздумал присвоить себе некоторые права королевской власти; всем известно, что ответом на это явились неслыханные оскорбления и покушение на Бонифация VIII. Вверившись этому государю, алкавшему власти и денег, и поселившись среди мира легистов, этих «рыцарей закона», смертельных врагов истинных рыцарей, магистр храмовников поступил крайне опрометчиво. Дух универсальности в европейском мире исчез; из двух верховных вождей христианства один, папа, был в плену, а другой, император, являлся просто князьком, занятым своими мелкими делишками. О крестовых походах говорили только на пирах и попойках. Но храмовники постоянно продолжали думать о Святой земле, инстинктивно чувствуя, что с прекращением крестовых походов рыцарские ордены должны погибнуть. Они обсуждали план экспедиции в Палестину, когда палач наложил на них свою руку.
Судьба тевтонов была отнюдь не столь трагична. Им принадлежали не только рассеянные по разным местам владения, но завоевание дало им родину. Основанный немцем для немцев их орден никогда не был универсальным, как два других, и дело, предпринятое тевтонами в Пруссии, где их сотрудниками являлись немецкие купцы и переселенцы, было столько же немецким, сколько христианским. Даже после изгнания из Палестины их существование не утратило смысла, и все понимали, к чему красуется на их плаще крест, так как Литва, соседка их Пруссии, оставалась языческой, а следовательно, подлежала завоеванию и обращению в христианство. Вот почему участь тевтонов оказалась так непохожа на судьбу храмовников: одни покинули Святую землю, чтобы погибнуть, другие — чтобы царствовать. И Мариенбургский дворец поднялся к небу одновременно с костром храмовников.
Мариенбург сделался столицей большого государства. Орден не замедлил перенести свое владычество за пределы Пруссии и Ливонии: он приобрел Померанию с Данцигом и сохранил за собой эту провинцию после тридцатилетней войны с Польшей**, а завоевание Эстонии у датчан передвинуло к Пейпусу его границы, доходившие на западе до Лебы.
В этой области орден сделал очень важное приобретение в начале ХV столетия: немецкая колонизация в Бранденбургской марке распространилась было до Вислы, но с прекращением Асканийской династии марка пришла в упадок и едва не погибла. Тогда орден купил у маркграфов Новую марку, расширив таким образом свои владения до Одера и обеспечив себе сообщения с Германией***. Ни одно государство в Восточной Европе не могло сравниться по совершенству управления с тем, главою которого была властительная корпорация тевтонов.
* В 1308 году.
** О том, как совершилось это завоевание, мы говорили выше.
*** Примечательно, что два государства, из соединения которых в ХVII столетии образовалась Пруссия, не раз сближались таким образом друг с другом, оказывая взаимные услуги. Когда марка пришла в упадок, орден приобрел у нее Новую марку, которая могла бы быть потеряна дая Германии. Дальше мы увидим, что когда орден пришел, в свою очередь, в расстройство, окрепшая при Гогенцоллернах марка возвратила себе Новую марку. Единство обеих историй зависит от того факта, что маркграфы и рыцари были немецкими колонизаторами в чужой земле.
Учреждения Тевтонского ордена
Эта корпорация при наборе своих членов свободна от всяких аристократических предрассудков. Основанный совершенно неизвестным человеком, обязанный поддержкой и средствами к новому возвышению, после падения иерусалимского королевства, любецким торговцам, сам являясь таким же торговцем и, одновременно с этим, земледельцем и промышленником, орден не может презрительно относиться к буржуазии. В его состав входят духовные и светские братья. Духовные братья, служащие священниками в его общинах, надобны ему, чтобы как можно меньше зависеть от епископов. Светские братья делятся на рыцарей и просто братьев; только первые носят белый плащ с черным крестом и имеют право на высшие места, а вторые, так называемые серые плащи, занимают маленькие должности, на которых они оказывают ордену большие услуги, так как рыцари совершенно не способны входить в частности сложной администрации, изводящей много пергамента на доклады и отчеты. Но простые братья не прячутся в канцелярии, и на них никто не смотрит свысока: они сражаются на войне, входят в состав почетной стражи гроссмейстера, заседают и подают голоса в консистории, которая его избирает.
Избрание главы ордена совершается с торжественной простотой. Когда умирает гроссмейстер, гонцы уведомляют об этом все командорства Пруссии, Ливонии и Германии, призывая каждого командора явиться в Мариенбург в сопровождении «лучшего» из братьев командорства.
В назначенный день собирается консистория. Рыцарь, исполняющий должность гроссмейстера, назначает «командора-избирателя»; этот последний выбирает второго избирателя, который сообща с ним присоединяет к себе третьего и т. д., пока не сформируется вся коллегия. Всего в ней тринадцать избирателей: священник, восемь рыцарей и четыре простых брата. При выборах обращается внимание на то, чтобы каждая область ордена имела своего представителя и ни одна не имела бы большинства. Тринадцать избирателей дают клятву не выбирать ни незаконнорожденного, ни рыцаря, который был осужден на год за преступление против целомудрия или за кражу. Затем командор называет своего кандидата и повелевает другим объявить своих с полной откровенностью и свободой. По окончании выборов звонят в колокола, духовные братья поют Te Deum, и новый избранник отправляется в церковь. Там ему говорят речь касательно обязанностей, налагаемых его саном, чтобы он не остался в неведении и не мог отговориться этим неведением в день Страшного Суда. Затем он получает кольцо и знаки гроссмейстерства из рук священника, которого целует. При всей этой церемонии нет ни прелата, ни нунция, ни посланника; орден сам у себя хозяин, сам, без всяких свидетелей, вершит свои дела, и это избрание является актом верховной власти, обставленным таким образом, что случайности при нем почти нет места: избранник назначается из среды достойнейших по их собственному выбору.
Гроссмейстер не деспот, он — глава аристократического правительства. Законодательная власть принадлежит генеральному капитулу, с согласия которого гроссмейстер назначает высших сановников ордена. Главнейшие из них — магистры Германии и Ливонии. С Мариенбургским калигулом он избирает прусских сановников: великого командора, великого госпиталария и других, которые образуют при нем что-то вроде совета министров. Его единоличному решению подлежат только самые незначительные дела. Так, в вопросе об отчуждении собственности стоимостью в 2000 марок уже необходимо согласие магистров Германии и Ливонии; когда дело идет о меньшей сумме, требуется согласие высших сановников Пруссии. Гроссмейстер имеет при себе только один из трех ключей от казны.
Территория ордена делится на командорства, подразделяющиеся, в свою очередь, на округа. Командор живет в одном из главных замков. Рыцари-чиновники, управляющие отдельным округом, называются, смотря по характеру местности, начальниками лесов или рыбных промыслов, Они собирают свой совет каждую пятницу, а командор — каждое воскресенье, так как орден строго следуют правилу, что дела идут тем успешнее, чем обстоятельнее их обсуждают. Дисциплина в ордене обеспечена его религиозным уставом. Братья дали обет целомудрия — устав запрещает им целовать даже родных сестер и матерей; дали обет повиновения — в знак своей покорности должны носить короткие волосы; дали обет бедности — и у них нет ничего своего; они не носят ни золота, ни серебра, ни ярких красок, никаких отличительных украшений ни на щите, ни на броне; оружие и лошадь можно изъять у одного брата и передать другому — и как бы рыцарь не любил своего коня, он не смеет делать ни малейшего возражения. Мельчайшие подробности одежды определены уставом, и каждая минута жизни имеет свое назначение. За общим столом после молитвы братья слушают чтение, содержанием которого служат по большей части рассказы о подвигах воинов времен Моисея и Иисуса Навина или о подвигах воина Иуды Маккавея и его братьев. Три дня в неделю они питаются молоком и яйцами; в пятницу, один из этих дней, постятся, и после постного ужина, между вечерней и повечерием, до самого отхода ко сну должны говорить вполголоса и только о назидательных предметах.
Братья спят в общей спальне, освещенной лампой. Они ложатся в постель полуодетые, кладя шпагу под рукой. Братья не должны иметь тайн от своих начальников и не могут ни писать, ни получать известия без их ведома.
Легко понять, какими силами эта корпорация, где единичная воля каждого подчинялась верховной воле гроссмейстера и сановников ордена, располагала все то время, пока в ней сохранялись религиозный пыл и повиновение уставу. Но чем объясняется то, что тевтоны не только хорошо управляли сами собой, а с чрезмерным искусством правили и другими? — Тем, что у них была громадная опытность: они начали приобретать ее в Святой земле и кончили в Пруссии, куда стекались колонисты и крестоносцы из всех территорий Германии и Европы. К этому следует прибавить широко раскинутые торговые связи и правильные сношения с командорствами и магистерствами вне Пруссии. Если и доныне остается правдой, что путешествие расширяет умственный горизонт и что с изучением нового языка люди приобретают новую душу, то еще вернее это было в средние века. У нас есть книги, газеты и школа, с помощью которых лучи света западают в самые темные уголки; но в средние века только те знали мир, кто видел его собственными глазами. Самые короткие для нас расстояния казались тогда огромными. Когда при Людовике VII жеводанский епископ приехал к королю, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность, король был так удивлен, так хвалил и так горячо благодарил епископа, что можно было подумать, будто Жеводан находится на краю света. Отечество каждого так мало — и сколько удивительного ожидает тех, кто выходит за его пределы! По пути в Святую землю перед каждой городской колокольней крестьяне сейчас же спрашивают, не сам ли это Иерусалим. Жуанвиль, попав в Египет, воображает, что он у врат земного рая, откуда вытекает Нил, неся на своих водах имбирь, ревень, алоэ и корицу — плоды деревьев, срываемые ветром в раю. Горе тому, кто захотел бы отыскать источники этой реки. Там, на отвесной со всех сторон крутизне, куда никому не подняться, собраны всякого рода и вида чудища — львы, змеи и олифаны, которые глядят сверху на воду реки. Так говорит Жуанвиль, а он еще истый скептик по сравнению с Людовиком Святым. Идеи людей того времени были узки, как их родина, а в средние века церковь была так могуча именно потому, что она обладала наибольшей суммой идей. Величие тевтонов обусловливалось теми же причинами: их универсальность помогает им в специальном их деле — управлении Пруссией, и ни одна кроха из их разнообразного опыта не могла пропасть ни под каким видом. Корпорации никогда не расстаются с тем, что однажды попало в их руки.
Находившийся под управлением тевтонов народ состоял из пруссов, поляков и немцев. Немцам принадлежало первое место по числу и по значению; они приходили из всех областей Германии, и в Пруссии немец мог услышать все наречия родной земли: нижненемецкие в Данциге и верхненемецкие в Торне. Колонисты из различных провинций принесли с собой и свои антипатии, которые были очень сильны в средние века и не сгладились совсем до сих пор. Немцы очень высокого мнения о своей нации, но не слишком уважают друг друга, и различные немецкие области постоянно обмениваются между собой грубыми насмешками. Немец из северных провинций неистощим в издевательствах над швабом и баварцем. Швабами он зовет клопов и рассказывает, что если бы толстый баварец получил от какой-нибудь феи право высказать три пожелания, то он прежде всего попросил бы себе пива вдосталь, потом кучу денег и потом, немного поразмыслив, еще пива. Такое отношение к баварцам в Пруссии существовало еще в ХIV столетии, и степенный Дуйсбург, который родился, по-видимому, на Рейне — так можно, по крайней мере, думать, судя по его имени, — вставляет в свой рассказ плохие анекдоты только для того, чтобы иметь удовольствие поднять на смех баварцев. Эти мелкие провинциальные распри станут опасны, когда орден будет близок к падению, и в междоусобных войнах ХV века баварец и шваб пойдут сражаться против прирейнских немцев и саксонцев. Но пока не наступили черные дни, эти люди, стекавшиеся в Пруссию со всех концов Германии, оказывались полезными общему делу своими профессиональными способностями.
Орден создал Пруссию — на этом зиждилось его право повелевать ею. Епископам, свободным людям, феодальным владельцам, горожанам и крестьянам — всем указал он их место и обязанности. Он явился раньше и стоял выше их.
Папа и император, уступившие Прусскую землю Герману фон Зальца, являлись до некоторой степени сюзеренами ордена; но император не был в состоянии пользоваться своими правами, а папская курия ограничивалась получением с ордена доходов. Живший в Риме прокуратор ордена не скупился на деньги; он делал щедрые подарки в известных торжественных случаях, как, например, после избрания гроссмейстера. Но если тевтоны много платили, то они не поступались ни одним из своих прав. Никогда они не дозволяли римской курии взимать с орденского духовенства один процент его доходов, как это делалось в других местах; никогда в Пруссии не собиралось денария св. Петра. Принадлежа к церкви, эти рыцари ее не боятся; когда приходится, они мужественно переносят отлучение, и если папский приговор им не нравится, они апеллируют на папу, допустившего ошибку, к папе, лучше осведомленному. Притязания римского первосвященника иногда доводили их до бешенства, и гроссмейстер Валленрод любил повторять, что по-настоящему на каждое государство было бы довольно одного священника, да и того следовало бы держать в железной клетке, чтобы он не мог никому делать вреда. У тевтонов мало было монархов. Единственные богатые монастыри Олива и Пелплин находились в Помереллии, присоединенной провинции, и возникли еще ранее, чем произошло присоединение. В самой же Пруссии монастыри были малы и бедны, да и тех было немного. При всех завоеваниях, совершенных мирянами, например, в меровингской и каролингской Германии, епископ и монах являлись очень важными лицами, о которых прежде всего приходилось думать — и действительно думали — при разделе имуществ: первые города северной Германии возникли у подножия монастырей или епископских церквей. Но тевтоны были в одно и то же время монахами и рыцарями, они и слышать не хотели о том, чтобы делиться с «капюшонниками», как выразился один орденский священник, насмехаясь над обжорством и праздностью монахов. «Капюшонник, — говорит он, — мог бы быть достаточно счастлив, если бы брал для питья воду из реки и захотел выращивать овощи, но аббат бросает блюдо бобов, лишь только завидит рыбу, и бросает рыбу, как только завидит мясо. Его капюшон не приведет его на небо; разве поможет строгость устава, если душа нечиста?»
Три собственно прусских епископства при своем основании были богато наделены землями; но чтобы воспрепятствовать бесконечному приращению неотчуждаемых имений, закон повелевал церквам продавать всякое новое попавшее в их руки имение не позже года и одного дня. Гроссмейстер почтительно обращается с епископами и не позволяет себе по отношению к ним того повелительного тона, каким он говорит с орденскими сановниками. Тем не менее, в епископских землях правит он, не исключая даже Ливонию, где епископ — основатель ордена Меченосцев — предоставил рижской церкви большие привилегии. На одном съезде в Данциге в 1366 году ливонские епископы просили, чтобы их не принуждали являться с ополчением на войну, если война эта объявлялась без их согласия. На это рыцари отвечали: «Так делается не по принуждению, а по достохвальному обычаю этой земли. Будучи одинаково соседями неверных, мы и вассалы рижской церкви имеем обыкновение помогать друг другу в борьбе с ними, как в случаях нападения, так и в случаях защиты. Прилично и необходимо, чтобы так это всегда и оставалось». Рижский епископ требует Для себя и для своих викариев права посылать к литовцам и русским послов, в особенности миссионеров с проповедью слова Божия. «Дай Бог, — отвечали рыцари, — чтобы вы как можно чаще посылали туда своих миссионеров и сами ходили проповедовать неверным; но во всех других случаях ваши посланные, отправляясь в Литву, должны идти с нашими и лишь для исполнения того, что будет им повелено: так это всегда делалось». В Пруссии орден не оставлял епископам ни тени сомнения относительно их обязанностей. Однажды, когда отряд епскопства эрмландского не явился в назначенный срок, гроссмейстер, обращаясь к людям епископа, сказал: «Знайте, что вы должны платить нам службой, которою вы нам обязаны, точно так же, как делают это наши подданные, ибо орден создал епископов, а не епископы орден».
Неуклонно требуя от епископов исполнения всех обязательств по отношению к нему, орден, с другой стороны, предоставлял им полную свободу управления в их богатых владениях, куда они привлекали колонистов и где основывали, подобно рыцарям, деревушки и города. Самой замечательной особенностью управления тевтонов являлось именно то, что они, строго настаивая на правах государства, в то же время предоставляли различным классам своих подданных широкую независимость.
Так, например, прусские города были почти республиками. Эта их свобода объясняется историческими обстоятельствами: положение колониста в Пруссии в эпоху завоевания было опасно, и для привлечения переселенцев приходилось обещать большие льготы; орден на них не скупился, и первые основанные им города получили грамоты, которым могли бы позавидовать наиболее свободные из немецких городов ХIII столетия. Кульмская грамота 1233 года признает за горожанами право самим избирать своих судей. Она определяет границы городской территории, которая позднее будет расширена при условии, что горожане сами будут заботиться об охране своего города. В пределах этой территории орден не может покупать домов, и если он получит их по завещанию, то должен, как и всякий другой владелец, подчиняться городским налогам и порядкам. Граждане владеют своим имуществом на правах полной собственности, передают его потомкам на вечное наследство и могут его продавать, при этом требуется только, чтобы покупатель был способен отбывать воинскую повинность, определенную законом соразмерно величине собственности, и платить небольшую поземельную подать, которая является знаком верховенства ордена — in recognitionem domini. Сначала граждане должны были отбывать воинскую повинность по всякому требованию ордена, но с окончанием завоевания они обязывались защищать только Кульмскую область между Древенцой и Осой. Город не был обязан принимать к себе гарнизон, был свободен от постоя и мог даже отказывать в пропуске проходящим войскам. Только одна монета должна была находиться в обращении в Кульме и во всей Пруссии, и ценность ее должна была оставаться неизменной. Рынки должны были быть свободными от всяких дорожных и таможенных пошлин. Таковы главные постановления этой Kulmische Handfeste, льготы которой распространились в Пруссии на большую часть городов и свободного населения деревень и которые сделались, таким образом, как бы великой хартией прусских вольностей. Самые большие города — Данциг, Эльбинг, Торн, Кульм, Браунсберг, Кёнигсберг — пользовались, естественно, и наибольшими привилегиями. Они присоединились к Ганзе, посылали своих депутатов на ганзейские сеймы и даже имели свои собственные сеймы и свои отношения, в которых орден не принимал никакого участия; они воевали с государствами, с которыми орден был в мире. Однажды они обратились к гроссмейстеру за посредничеством в ссоре с королем датским; в другой раз предложили ему свое посредничество, чтобы покончить войну с литовцами.
Вне городов в Пруссии проживало тоже довольно много свободных людей, своего рода вассалов ордена. Это были немцы, пруссы, заслужившие свободу своей непоколебимой верностью, и привилегированные поляки. Непосредственно вслед за ними шли крестьяне немецких деревень.
В Пруссии, как и в Бранденбурге, деревни строились с подряда. Подрядчик получал от гроссмейстера или от одного из командоров концессию на участок земли, обязуясь найти колонистов и гарантировать уплату следовавшей с участка поземельной подати по истечении нескольких лет свободного пользования им; лично он пользовался Кульмским правом и, после основания деревни становился в ней наследственным судьей и администратором. Крестьяне получали свои земли от него, а не от ордена непосредственно, как кульмские граждане, но грамота, данная подрядчику, определяла условия их зависимости от него и защищала от его произвола. Крестьяне должны были платить поземельную подать и отбывать воинскую повинность, к этому вскоре присоединилась государственная барщина. Таким образом, их собственность не была вполне свободной, но они пользовались полной личной свободой. Немецкие крестьяне в Пруссии впали в рабство лишь после крупных погромов в ХV веке. До того времени только прусские и польские крестьяне не имели никаких прав: они не были защищены никаким договором, их действительно можно было обременять податями и барщиной по произволу.
Тевтонские чиновники собирают в своих округах определенную городскими и деревенскими грамотами поземельную подать, а также десятину, которая принадлежит ордену в силу условий, заключенных с епископами. Кроме того, орден, как и все государи, имеет фискальные права на рудники, воды и леса, на охоту и рыбную ловлю, и его огромные домены дают ему отличные доходы. Орденские чиновники являются вместе с тем военными начальниками округов и заседают в городских и сельских судилищах (Landgerichte), где свободные люди, живущие по Кульмскому праву, судятся равными себе людьми под председательством выборного судьи. Однако командоры и другие доверенные лица ордена имеют право только присутствовать на суде, но не принимать в нем никакого участия; орден может судить лишь своих членов и принадлежащих ему польских и прусских крестьян. Тут еще раз обнаруживается весьма искусное соглашение между правами суверена и привилегиями подданных.
В период процветания ордена, т.е. в ХIV веке, управление его было легким для управляемых; ни подати, ни воинские повинности не были обременительны, потому что орден имел собственные крупные средства и сам представлял собой постоянную армию.
Налагаемые им обязательства являлись признанием тех благодеяний, которые он оказал колонистам, дав им земли и свободу, и которые оказывал им ежедневно своим управлением. Он вознаграждает своих подданных за причиненные им войной убытки, помогает в случаях голода — и это еще не самые крупные его заслуги. Уже одной той статьи Кульмской хартии, где заявляется, что во всей Пруссии будет только одна монета постоянной ценности, достаточно было для привлечения колонистов в то время, как каждый князь, каждый большой город имел свою монету и купец должен был постоянно прибегать к размену, подвергаясь при этом крупным убыткам и опасности разорения из-за подделки денег. Строгая полиция командорств охраняла безопасность сухопутных и водных путей, а торговая политика рыцарей открывала прусским торговцам рынки по всем направлениям. Наконец, сам орден давал пример земледельческого и промышленного труда. История может сказать почти то же, что сказал один гроссмейстер в ХIV веке, указывая на заслуги своего правления: «Все наши города и простой народ живут под хорошей охраной; прелаты, вассалы и простонародье не нарадуются миру и справедливости; мы никого не давим, ни на кого не налагаем беззаконных тягостей; мы не требуем того, что нам не принадлежит, и все, благодаря Богу, управляются нами с одинаковой благосклонностью и справедливостью».
Процветание орденских земель
Трудно было бы поверить удивительному процветанию тевтонских земель, если бы оно не подтверждалось множеством свидетельств и неопровержимых фактов. Мы не раз еще встретимся с ними в дальнейшем изложении, но самый разительный из этих фактов заключается в том, что собственно Пруссия насчитывает у себя в это время 85 городов, 60 из которых были основаны в ХIV веке, и 1400 немецких деревень, не считая прусских и польских. Всюду кипит поразительная деятельность. Орден всяческими мерами помогает развитию земледелия. Сейчас еще среди каменных статуй, украшающих мост в Диршау, можно видеть статую рыцаря, опирающегося рукой на колесо: она поставлена в память о больших осушительных работах в том болотистом и заросшем лесом и камышом округе, который тянулся между Вислой и Ногатом. Там были построены плотины, и бесчисленные деревушки скучились по вердерам, или осушенным участкам, которые давали и теперь дают богатые урожаи. На всем протяжении прусской территории существовали особые управления для осушительных и оросительных работ, вверенные присяжным лицам. Каждая деревня обязана была следить за чистотой рек, прудов и колодцев, и надзор за этим был поручен особым присяжным надсмотрщикам.
В Пруссии сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес, бобы, горох и морковь, которая играла важную роль в народном питании. Рыцари ввели неизвестные прежде в стране растения. Так, в их счетных книгах значатся перец и шафран, которые вместе с хмелем разводились на более плодородных участках Пруссии. И не без удивления читаем мы в летописи, что в суровую зиму 1392 года мороз побил виноград и тутовые деревья.
Тогда были в ходу торнские, кульмские и данцигские вина, бочки которых орден хранил в своих погребах; надо, однако, полагать, что вина эти можно было пить, не впадая в грех чревоугодия.
В этой солдатской и земледельческой стране разведение лошадей было предметом особенных забот. Наряду с туземной породой, малорослой и неутомимой, годной для почтовой конки и легкой конницы, колонисты вывели лошадей для земледельческих работ и тяжелой конницы. Орден ввел в своих землях новую породу рогатого скота, вывезенную из Готланда. В Пруссии было тогда множество овец, и если вывоз шерсти был запрещен, то не потому, что ее было мало. Дело в том, что Пруссия сама вывозила сукна, и орден хотел сохранить сырой материал для ремесленников своих городов. Желудями дубовых лесов кормилось множество свиней. Коз также было очень много; так как они меньше занимают места и менее требовательны, чем коровы, то их разводили при замках как провиант на случай осады. Домашняя птица водилась в изобилии: в числе доходов, собираемых орденом натурой, значится 60 тысяч петухов. По официальным данным тевтонского счетоводства можно составить себе некоторое представление о богатстве страны в начале ХV столетия. У ордена было около 16 000 лошадей, 10 500 голов крупного рогатого скота, 61 000 овец, 19 000 свиней. Его домены занимали около 1100 квадратных километров.
Вывоз зерна являлся одним из главных предметов прусской торговли, так как, несмотря на густоту населения, страна производила больше хлеба, чем потребляла. Это объясняется господством мелкой земельной собственности, возникшей благодаря тому, что орден очень рано отказался от дачи крупных владений. Если в наши дни слишком мелкая собственность является препятствием — для развития земледелия, то крупная собственность была бы пагубна в то время, когда не существовало машин, когда сельскохозяйственное счетоводство было очень несовершенно, а пути сообщения неудовлетворительны. Эксплуатация лесов являлась прибыльной. Дерево вывозилось в виде кольев для заборов или луков. Кроме того, в лесах добывали смолу, поташ и золу. Сверх той дичи, которая встречается в прусских лесах и теперь, охотники били там зубра, медведя, волка, бобра, белку и куницу. Дичи было так много, что она шла даже на провиант для армий. В лесах, наконец, собирали мед диких пчел, и этим промыслом жили многие деревушки, расположенные у входа в пустыню, как называли тогда обширное, покрытое лесом пространство между Пруссией и Литвой — опасную область, где охотника, рыболова и пчеловода подстерегали разбойники. Гроссмейстер часто отправлялся туда с многочисленным конвоем и приглашал соседних князей на большие охоты, которые длились иногда целые недели.
В Пруссии промышленность не была привилегией городов, так как замки ордена нуждались в ремесленниках. Многочисленные мельницы служили не только для помола зерна: их двигательная сила находила себе разнообразнейшие. применения.
Рыцарям принадлежало 390 мельниц, на которые они не жалели издержек. Некоторые из этих основательных сооружений стоили от 20 до 30 тысяч талеров, и помол, производившийся на них, можно было определить в 300 000 гектолитров — этого достаточно было для прокормления 560 000 человек. Список ремесел тот же, что и во всех странах: булочники, мясники, сапожники, пивовары в огромном числе — в одном Данциге их насчитывалось 476; цирюльники и хирурги, медики, визиты которых оплачивались дорого и среди которых встречались специалисты по каменной и глазной болезням; аптекари-кондитеры, изготовлявшие сласти, которые рыцари забирали с собой в походы; судостроители — известны случаи продажи судов англичанам и фламандцам; морские и речные лодочники. Для работы по управлению орден держал писцов и землемеров; для своих праздников — певцов, мимов, шутов, дрессировщиков медведей, словом, всех средневековых придворных забавников; для своих церквей и замков — строителей оргáнов, скульпторов и живописцев, получавших иногда очень щедрое вознаграждение: одному мариенбургскому живописцу было однажды заплачено за картину 2 880 талеров.
Прусская торговля в ХIV столетии находилась в цветущем состоянии. Ордену нетрудно было направить через Пруссию транзит товаров, шедших из Польши и южной России к берегам Балтийского моря. Несмотря на то, что польские и русские города едва начинали развиваться, там уже успело водвориться множество немецких семей — к примеру, во Львове их насчитывалось 1200. Немецкие колонисты в Пруссии и в Польше легко вошли между собой в соглашение. Кроме того, орден нашел лучшее орудие торговой пропаганды в своей единообразной и надежной монете. В ХIV веке эта монета проникла во все северные провинции Польши и получила там полные права гражданства. Таким образом, у Торна, расположенного на южной границе Пруссии, завязались очень оживленные сношения с Краковом и Галицией, и торговый путь с запада на восток пошел через Пруссию. Силезские города были наполнены немецкими колонистами, которые отправляли товары в Россию и вывозили оттуда ее продукцию. И когда польский король Казимир закрыл для бреславских горожан путь через свое государство, то они, заключив договор с орденом, стали ездить через Пруссию. В средние века самые короткие дороги вовсе не были самыми удобными, и объездом можно было сильно сократить путь, если он проходил по стране, где не было ни междоусобных войн, ни разбойников. Польский король, жалуясь, что орден отвлекает к себе движение, чем уменьшает его королевские доходы, дает тем самым похвальный отзыв тевтонскому правительству. Но главное торговое транзитное движение шло с юга на север по естественному пути — Висле. Орден запрещал иностранцам плавание по этой реке, и корпорация привислинских судовладельцев, учрежденная с его согласия, получила от него большие льготы при условии построить все пристани на правом, т. е. на прусском, берегу реки. Эта монополия раздражала поляков. Но Висла была самым коротким и в то же время самым безопасным путем к Балтийскому морю, и польским купцам приходилось вверять свои товары прусским судовладельцам.
В языческую эпоху торговля собственно прусской области — разумеется, почти ничтожная — состояла из ввоза соли и железа, вывоза янтаря и куньих шкурок. С превращением Пруссии в культурную страну она стала быстро развиваться. Сначала Пруссия питалась польским хлебом, но в ХIV веке она сама уже вывозила зерно, лесные продукты и даже некоторые промышленные товары — например, мариенбургские сукна. Крупная торговля в Пруссии находилась в руках горожан, принадлежавших к Ганзе*.
Этот обширный союз, включавший в себя все города тех стран, население которых разговаривало на нижненемецком наречии, разделялся на четыре округа: прирейнский, где столицей был Кельн; саксонский, главными городами которого были сперва Магдебург и позднее Брауншвейг; вендский, где господствовал Любек; прусский, где Данциг не замедлил затмить собою Торн. Эти два последних города разбогатели раньше других, потому что Балтийское море было тогда самым рыбным в Европе. Семга и угорь кишели в устьях реки, и сельдь проплывала ежегодно через Зунд в бесчисленном множестве. Страсть к приключениям и религиозный пыл играли, без сомнения, крупную роль при колонизации берегов Балтийского моря. Нужно отвести важное место в истории папским буллам, увещевавшим христиан идти на завоевание царства Святой Девы. Но не следует забывать и о селедке — она тоже была важным историческим «лицом», очень своенравного характера: ее причуды не раз до глубины души волновали весь северный мир и стоили жизни тысячам людей. До конца ХП века она шла вдоль померанских берегов, где ее было такое множество, что стоило бросить в море корзинку — и она оказывалась полна рыбы. Тогда возвысились Любек, Висмар, Росток и Штральзунд. В ХIII веке рыба, изменив путь, пошла мимо Шонена и норвежских берегов. Северные моряки последовали за ней, и ганзейцы, дав ряд сражений англичанам, шотландцам и голландцам, разрушив множество датских крепостей и пустив ко дну немало иностранных кораблей, удержали за собой поле битвы.
Лов сельди положил начало благосостоянию прусских городов. Они являлись владельцами части знаменитого рыболовного учреждения в Шонене, который ганзейцы отвоевали себе и превратили в укрепленное место.
Каждый город, или каждый союз городов, имел там свой квартал, отделенный от других оградой и управляемый по законам родины. Там был ряд каменных домов, где солили и коптили рыбу, и множество деревянных кабаков и лавок. Церковь и кладбище, помещавшиеся в центре, были общие. Во время рыбной ловли, между праздниками св. Иакова и св. Мартина, флотилии Северного и Балтийского морей причаливали к Шонену. Тогда днем и ночью по всему побережью, при свете солнца или факела, рыбак без устали закидывал свои сети, а на берегу между тем непрерывно стучал бочарный молот. Шонен служил также рынком, куда стекались всякого рода товары: сюда привозили южные материи и вина, восточные пряности. По окончании кампании колонисты исчезали, и в Шонене оставались лишь гарнизон солдат да те страшные собаки, которых ганзейцы дрессировали для охраны своих факторий.
Прусские ганзейцы встречаются и в Новгороде, где немцы теснились в укрепленных кварталах св. Олафа и св. Петра, наваливая тюки товаров внутри самих церквей в таком количестве, что едва оставалось немного свободного места у алтаря. Подчиняясь правилам, напоминающим монастырский устав, эти колонисты ели в определенные часы за общим столом, ложились спать, как только сторож прокричит, что пришло время тушить огни, и выходили из дому лишь по делам. Им запрещено было посещать чужие кабаки и приводить с собой вечером в квартал незнакомого человека — впрочем, собаки сами не пускали в свой квартал никого чужого. На другом конце Европы прусские корабли ежегодно отправлялись в залив Бургнев за солью, которая считалась лучшей для засолки сельди. Сюда купцы тоже привозили с юга вина, плоды, шелк, и на побережье устраивались большие ярмарки. В Лондоне на долю прусских городов приходилась третья часть торговых оборотов Гаты. О тогдашнем богатстве и могуществе этих городов можно судить по тому, что на них падало обязательство выставлять третью часть наличного состава ганзейского войска во время жестоких войн с пиратами и северными королями. Еще и теперь ряд памятников свидетельствует об их прежнем величии, и ратуши прусских городов не менее замечательны, чем рыцарские замки и церкви.
Орден богател одновременно со своими подданными и теми же способами. Представляя собой крупного потребителя и производителя, он в то же время был торговым домом с обширными коммерческими связями.
Великий шеффер, состоящий при гроссмейстере, был своего рода министром торговли, и в каждом командорстве был свой шеффер. Эти чиновники посылали своих комиссионеров во все торговые центры и обладали значительным оборотным капиталом. У мариенбургского шеффера собиралось иногда в кассе до 4 320 000 франков на наши деньги. Широкая независимость, предоставленная командорам, очень поощряла их коммерческую предприимчивость. Командор подвергался надзору орденских ревизоров и был сменяем. Но отставки случались редко, а пока командор оставался на своем посту, он был царьком в своем округе, имел свою казну, выдавал из нее деньги на местные расходы и удерживал в ней все сбережения. Когда он умирал или оставлял службу, сбережения эти передавались в Мариенбург. Рыцарская казна считалась самой богатой во всем христианском мире, и крестоносцы, направляясь в Литву через Пруссию, удивлялись процветанию этой страны, где все мирно работали, где заработная плата, как это бывает во всякой новой земле, оплодотворенной трудом, была очень высока, и где каждый год вырастали город за городом и деревня за деревней. Рыцари, пришедшие в 1339 году из Метца, рассказывают, что они видели в Пруссии 3 007 городов! Дело в том, что они принимали за города богатые деревни на вердерах и в Кульмерланде. Да и нетрудно им было ошибиться. Записи убытков, понесенных деревнями, сгоревшими во время войн 1411 и 1418 годов, где даны точные цены на скот и зерновой хлеб, сообщают нам, что для некоторых деревень убытки высчитывались, по современной стоимости денег, в 200 000 франков!
* У немецкой торговли был тоже свой героический период в ту эпоху, когда маркграфы и рыцари завоевывали на востоке новые провинции для Германии. Купец шел даже впереди рыцарей и, подобно им, был воином Христа. Раньше чем орден принес в Пруссию хоругвь Святой Девы, балтийское побережье было уже поставлено под покровительство Богоматери, и когда папство впервые обратило свои взоры на северных сарацинов, Иннокентий III писал рижскому епископу, что его сердцу одинаково близки и царство Матери, и царство Сына, т. е. и берега Балтийского моря, и Святая земля. Немецкий корабль походил тогда на плавучий монастырь. Когда один из этих кораблей, отправляясь в дальнее плавание, отходил на полдня пути от гавани, то капитан собирал экипаж и пассажиров и обращался к ним с такой речью: «Вот теперь мы предоставлены Богу, ветрам и волнам; перед Богом ветром и волнами мы все равны. Нас окружают опасности, нам грозят бури и морские разбойники, и не достигнуть нам среди них нашей цели, если мы не подчиним себя строгому общему уставу. Начнем с молитвы и песнопений, прося у Господа попутного ветра и счастливого пути, а затем изберем судей, которые будут беспристрастно судить нас». По окончании молитвы и выборов читался морской устав. В первых статьях его значилось, что «воспрещается богохульствовать, поминать дьявола и спать во время молитвы». Эти христианские купцы являлись на туманных берегах Балтийского моря тем же, чем были древние греки для залитых солнцем побережий Средиземного моря, т.е. вестниками цивилизации. Они первые ввели грубых язычников Восточной Европы в человеческое общежитие, основав на берегах конторы, которые часто потом превращались в города. В конце ХII века бременские купцы, высадившись на Ливонском берегу, построили там под градом камней, которыми их осыпали туземцы, форт Икскюль. В следующий приезд они привезли с собой миссионеров, затем священника из своего собора — и Икскюль стал городом Ригой. Немецкие же купцы основали Ревель под защитой цитадели, построенной датским королем Вальдемаром Победителем, и Дерпт, заложенный на месте разрушенного ими замка ливонских и русских морских разбойников. Любечане, высадившись у устья Вислы, построили укрепленную факторию вблизи хижин местных жителей, занимавшихся добычей янтаря и копчением сельди, — из фактории вырос Данциг.
Военное могущество и историческое значение ордена
Главным предметом удивления для иностранцев являлись, без всякого сомнения, военные силы тевтонов. У ордена был военный флот на Балтийском море и несколько речных флотилий. Армия ордена состояла из крестьян, служивших частью при обозе, частью же пехотными солдатами на судах и военных повозках, из легкой кавалерии, в которой служили свободные пруссы, и из тяжелой кавалерии, где рыцари со своими вассалами и наемниками были распределены в «копья». Орденская артиллерия очень рано стала грозной силой. Орден тщательно следил за всякими изобретениями в области вооружения и тотчас же принимал их у себя. Лук, заимствованный рыцарями в Святой земле у сарацинов, так же помог их первым победам над пруссами, как мушкет — победам Кортеса над мексиканцами. Ни у кого не было собрано в арсеналах столько военных орудий старого типа, завещанных средним векам от древнего мира, — таранов, баллист, подвижных башен и т.п. Едва появляется первое упоминание о применении пушки в Европе (это было в 1324 году) — и четыре года спустя становится известно, что один литовский вождь убит тевтонским ядром. У ордена была походная артиллерия, морская артиллерия, осадная артиллерия. Особым предметом его гордости было литье пушек чудовищных размеров: в 1408 году в Мариенбурге было отлито орудие в 200 центнеров весом, оно обошлось в 135 000 франков. «Тщетно было бы искать подобной пушки в Германии, в Польше и в Венгрии», — с гордостью заявляет один из современников. Когда стали заготавливать ядра для этого чудовища, то оказалось, что поблизости нельзя найти достаточного размера камней, и рабочим пришлось отправляться в Лабиау, где почва покрыта гигантскими валунами. На следующий год эта царь-пушка была испробована на поляках — и в четыре дня стены Бобровника на Висле были разбиты вдребезги. Тактика рыцарей, непрерывно совер- шенствовавшаяся опытом, вполне стоит их вооружения. Если нет самого гроссмейстера, то командует великий маршал: ему все обязаны повиновением — не только наемники, которые в этом присягают, но и крестоносцы. Порядок, в котором движутся «хоругви», определен заранее. Армия охраняется авангардом и арьергардом. Никто не смеет без дозволения выйти из строя или снять с себя доспехи. Ввиду неприятеля соблюдается величайшая осторожность: тевтоны не начинают сражения, не сделав рекогносцировки и не узнав точно сил противника (pensare exercitum).
Трудно определить численный состав орденских армий, но ни одно соседнее государство, предоставленное собственным силам, не в состоянии было выставить больше воинов в поле. В особенно важных случаях орден мог увеличивать свой контингент наемниками. Так, в 1411 году он израсходовал на них 10 миллионов франков.
Как же воспользовались рыцари таким могуществом? Чтобы оценить их роль во всеобщей истории, нужно помнить, что судьбы Восточной Европы в ХIV веке еще не определились. Запад Европы имел естественные деления, как бы предназначенные для вмещения в себя наций. Нации в них и жили. Сначала они были чужды друг другу, потом объединились в Римской империи, затем снова разъединились после нашествия варваров и вновь соединились под скипетром Карла Великого, чтобы еще раз распасться в IХ веке. Но и после распада у них все же сохранились общие предания и общие чувства. Не таков вид Востока, не такова и судьба его. На необъятной равнине, простирающейся от Эльбы до Уральских гор, нет колыбелей для наций; народы расставлены по ней как отряды войска, и чем дальше от Запада, тем они грубее. Ни один из них не возвышается над другим, потому что ни за одним нет прав на владычество. Преобладание в Восточной Европе принадлежит славянской расе, но она сама разбита на племена, которые почти что не знают друг друга. Тут нет ни общего духа ни общего языка, каким был латинский на Западе. Тут не явилось Карла Великого: чтобы мог явиться пастырь народов, надо, чтобы сами народы могли соединиться в одно стадо. Вся эта область была открыта завоеванию. Немецкие маркграфы и купцы затронули ее на берегах Балтийского моря, Эльбы и Дуная, а с другого конца в ней бушевали нашествия орд, иногда только проходивших через нее, а иногда и основывающихся там — как монголы, венгры и турки.
В этой громадной области следует различать две части: пограничную с Западом и соседнюю с Азией. В первой рано образуются три государства — Венгрия, Чехия и Польша. Приняв христианство, они вступают в общество европейских народов и, как соседи Священной Римской империи, считаются ее вассалами в эпоху ее могущества; после же ее падения в ХIII столетии на Чехию и Венгрию заявляет свои притязания молодой австрийский дом. Другая часть коснеет в варварстве. Раздробленная Россия является данницей монголов, беспощадно эксплуатируется немецкими и скандинавскими купцами и сильно урезана завоеваниями Литвы. Литовцы занимали области Вильно и Ковно. Они явились в арьергарде арийских переселенцев, и язык их более всех европейских наречий приближался к санскритскому, хранил в себе воспоминания о Востоке. Это был народ первобытный и грубый по сравнению с прусскими немцами, но очень даровитый, а на поле битвы — гроза своих врагов. Он селился родами, по деревушкам, в маленьких круглых избенках; у каждой семьи была своя изба, а кроме того, были общие избы, где жители стряпали, варили пиво и пекли хлебы. Литву можно было принять за орду только что остановившихся кочевников. Денег литвин не знал, и земледелие находилось у него в младенчестве: ел он один черный хлеб, да и того часто не хватало. Единственное богатство там составляли лошади — в ХIV веке у великого князя литовского Витовта их было 20 ООО. Прекрасные солдаты, мастера окапываться и дивные наездники, литовцы жили главным образом войнами, которые они постоянно вели со всеми своими соседями — поляками, прусскими немцами и в особенности с русскими. Национальная династия, создавшая единство страны, завоевала значительную часть России; и странное зрелище представляло это языческое государство, которое в эпоху упадка старой средневековой веры на Западе грозило поглотить Восточную Европу и оспаривало у монголов страну, которая впоследствии была названа Святой Русью.
Тевтоны расположились на рубеже этих двух частей Восточной Европы, одна из которых была уже сильно затронута немецким завоеванием или немецкой политикой, между тем как другая продолжала жить смутной жизнью первобытных народов. Этим объясняются как трудности, так и величие исторической роли ордена.
Возведенный папой и императором в звание, так сказать, маркграфа христианского мира, орден должен был стать в строй лицом к Востоку, и крест, который рыцари носили на груди, обязывал их к постоянной войне с Литвой. Орден действительно вел эту войну, и рыцари, идя во главе крестоносцев и искателей приключений, жестоко грабили своих неверных соседей; но отнять у них им удалось всего только кусочек побережья, отделявший Пруссию от Литвы. Единственная большая победа над Литвой была одержана ими на тевтонской же территории. В 1369 году рыцари и литовцы вели, по обыкновению, войну на берегах Мемеля, брали друг у друга крепости, теряли их, вновь брали — и закончили, наконец, кампанию обменом пленными, решенным на встрече великого маршала с литовским князем Кейстутом. На прощание литвин сказал: «На будущую зиму я думаю побывать в гостях у гроссмейстера и попросить у него гостеприимства». — «Пожалуйста, не раздумайте, — отвечал маршал, — и будьте уверены, что мы примем вас с должными почестями». Кейстут не стал терять ни минуты: он набрал ополчение у себя и у своих соседей — русских, послал просить помощи у своего союзника Мамая — великого хана татарского. Командор пограничной крепости Рагнита следил за приготовлениями врага. Вся Пруссия была в смятении. Гроссмейстер с большим войском отправился в Кенигсберг, чтобы помешать вторжению литовцев. Но он ожидал их только к Пасхе, а между тем Кейстут и брат его Ольгерд обманули орденских шпионов, и гроссмейстер был еще в Кёнигсберге, когда туда ночью пришла весть, что оба князя уже проникли в Пруссию — один через Галинденскую пустыню, а другой по льду Куришгафа — и идут по ней, освещая свой путь пожарами. Гроссмейстер вышел из города и послал маршала на рекогносцировку против врага, который остановился возле Рудау. Сражение началось рано утром, и был неясен исход его до полудня. А когда языческим войскам пришлось, наконец, отступить перед лучше вооруженной кавалерией ордена и городов, то все поле битвы было уже усеяно мертвыми рыцарями, в числе которых находился и великий маршал. В память об убитых были поставлены три памятника и построены две часовни, где священники должны были постоянно служить обедни за упокой их душ. Сверх того, гроссмейстер захотел поставить каменную колонну на том месте, где пал великий маршал; она стоит там и до сих пор.
Тевтоны были непобедимы у себя дома, как литовцы в Литве. Однако гроссмейстеры уверяли, да и сами верили, что придет день, когда с Литвой они сделают то же, что сделали с Пруссией. Упрек, который им выдвигался в ХIV веке многими христианскими странами, будто они намеренно затягивают литовскую войну, по-видимому, ни на чем не основан. Всякой силе есть пределы, даже силе распространения немецкой расы. И то удивительно, как этот народ, лишившись верховного руководства, которое у него было в эпоху Карла Великого и Генриха Птицелова, и двигаясь отдельными отрядами — тут под началом маркграфов, там под предводительством ганзейских капитанов или под знаменем рыцарей — все-таки сумел колонизировать целую страну между Эльбой и Мемелем. Откуда же у этих восточных колонистов мог так скоро явиться избыток населения, который позволил бы им отправлять вдаль новые толпы? Притом же орден не мог отдавать все свои силы на борьбу с восточными язычниками. Он не мог оставаться равнодушным свидетелем другой борьбы, которая завязалась между немцами и славянами в первой из намеченных нами выше частей европейского Востока. Если славяне и потеряли навсегда Лузацию, Силезию и Бранденбург, эти исконные владения их расы, то они бились еще в Померании, а Польша временами становилась поистине грозной силой.
Служа авангардом германской колонизации, тевтоны должны были оборачиваться назад для прикрытия главной армии, и большая часть их силы пошла не против язычников, а против христианских врагов немецкой расы. С этими врагами они бились достойно, и славнейшие их битвы обеспечили им победы над Польшей.
Припомним, что славянский герцог Святополк Померанский помогал пруссам во время их мятежей в ХIII веке и подверг орден большой опасности. После смерти его преемника Мествина поляки заняли эту область, которую у них оспаривали соединенными силами орден и маркграфы бранденбургские. Орден действовал так успешно, что, завоевав Померелию, стал грозить самой Польше. Казимир Великий поспешил начать переговоры и в 1343 году в Капище отказался от спорной провинции на торжественной встрече, где король и гроссмейстеры дали клятву — один на короне, другой на кресте, — что будут хранить мир свято и нерушимо. Это примирение, как и всякий вечный мир, длилось очень недолго. Дело в том, что в этой войне между немцами и славянами борьба за Померелию имела значение тех решительных сражений, которые воюющая сторона дает противнику с целью отрезать его от операционного базиса и блокировать. Померелия связывала Пруссию с Германией: за нее первую схватится снова Польша в момент своего торжества, и ее первую потребует себе Фридрих Великий при разделе Польши. Борьба эта кончилась только с гибелью одного из противников, и уже пять веков тому назад многим было ясно, что немецкая колония в Пруссии и самая могущественная из славянских наций являлись непримиримыми врагами, один из которых должен был уничтожить другого. Доказательством служит то, что тогда уже заводилась речь о разделе Польши.
Это было в конце ХIV века, когда в Венгрии и Чехии царствовали двое немецких принцев из люксембургского дома — Сигизмунд и Венцеслав. Один силезский герцог, друживший с этим домом, приехал к гроссмейстеру в Торн и держал там такую речь: «Мой государь король венгерский, маркграф моравский, герцог герлицкий, герцог австрийский и я, тщательно обсудив дело, сговорились напасть на польского короля. Король чешский будет нам помогать. Мы думаем, что вы можете принять в нашем деле участие». Гроссмейстер сказал: «По правде говоря, я не знаю, что вам ответить». — «Подождите, — продолжал герцог, — вы еще не знаете, в чем наш план. Мы хотим, чтобы в Польше больше не было короля. Все, что лежит по сю сторону Капища, вместе с Мазовией, должно отойти к Пруссии; страна за Капищем достанется Венгрии, а вся земля по Варте — Бранденбургу и римскому королю Сигизмунду». Гроссмейстер не захотел взять на себя никаких обязательств; он заявил только, что состоит в мире с королем, но что король много раз нарушал договоры, и если святой отец объявит крестовый поход, а римский король обнажит меч против этого клятвопреступника, то он, со своей стороны, тоже будет биться за правое дело, не щадя живота. План этот остался без последствий, но нет сомнения, что, проживи тевтонская корпорация подольше, он снова бы явился на сцену.
Вот почему эта старая история тевтонов дышит для нас жизнью и вовсе не так далека от современности, как это могло бы казаться. Тевтоны обладали широкими взглядами на политику, как замечает по этому поводу один прусский писатель. Но лучше просто сказать, что они были действующими лицами в драме, которая продолжается и сейчас и далека еще от завершения, — в борьбе славянской и германской рас.
В этой драме был длинный перерыв: сто лет тому назад нельзя было даже думать, что она должна возобновиться. Восток ХVIII века был совсем не похож на Восток ХIV столетия. Сила водворила там порядок, втиснув в строгие границы растекавшиеся во все стороны по этой равнине народцы. Пруссия, Австрия, Турция и Россия поделили их между собой. Племенная вражда затихла, и политика самовластно распоряжалась народами. Но в ХIХ веке они снова требуют права распоряжаться сами собою, их внутреннее чувство протестует и возмущается против политики — и раса снова становится отечеством. Правда, участие России в разделе Польши и присутствие государства османлисов на европейском континенте очень усложняют отношения между народами и правительствами. До сих пор за игрой политических комбинаций невозможно ясно различить уровень этнографического патриотизма. Но чем больше слабела Турция, тем понятнее становилось, что на этом Востоке — области будущих гроз — спор все так же идет между германцами и славянами, как и в те времена, когда рыцари скакали по льду литовских рек и озер и заряжали свои пушки ядрами, высеченными в моренах доисторических ледников.
Падение Тевтонского ордена
Причины упадка ордена
Тевтонский орден достигает в начале ХV века зенита своего могущества, затем, без всякого перехода, сразу рушится в бездну. Не враги сразили его — в самом себе носил он зародыши смерти. Дело в том, что он был корпорацией, а почему судьбы корпораций так несхожи с судьбами народов, превосходно объяснил Фрейтаг. Жизнь народа, его взгляды и дела определяются множеством идей и страстей: у него бывают моменты прилива сил и слабости, здоровья и болезни; много раз может он падать и опять подниматься на ноги до того дня, когда путь его дойдет до рокового предела и окончательно скроется под пеплом его дум и деяний. Но и тогда еще после него остаются индивидуумы, которые переносят его цивилизацию к другим народам, расширяя этим их национальный кругозор. Так было с евреями, так было с греками. Корпорация, напротив, живет одной идеей, и в тот час, когда эта идея становится чуждой не знающему остановок в своем движении миру, она падает сразу, и падает низко, бесславно, при всеобщем равнодушии или даже презрении и ненависти, ибо история дорожит только теми народами и лицами, которые жили человеческими страстями, и отворачивается от созданных холодным разумом организмов, которые с общим ходом развития потеряли всякое разумное основание существовать.
Интересно сравнить участь немецкой колонии в Пруссии с участью колонии в Бранденбурге. Государство, основанное орденом, было так же искусственно, как и государство, основанное маркграфами: и там, и туг целый народ был истреблен, чтобы дать место колонии, подверженной крупным опасностям. Но бранденбургская колония управлялась династией, т. е. непрерывным рядом людей, которые, нося одно и то же имя и занимаясь одним и тем же делом, были все-таки способны следовать за временем и жить жизнью каждого нового людского поколения по одному тому, что они шли друг за другом, сохраняя полную свободу действий. В средние века короли создают нации. Как только пал феодальный строй, уступив место господству некоторых фамилий, государства стали воплощаться в особах государей. Ни государь, ни подданные уже не ставят различий между общественными и частными делами государя. Семейные радости царствующих домов радуют и подданных: расширение государевых доменов является расширением самого государства. Все управление ведется в государевом доме: там совершается суд, там издаются законы, там чеканится монета. Частные государевы слуги становятся общественными чиновниками: его конюший превращается в начальника кавалерии, камергер заведует королевской канцелярией и заседает в верховном суде. Раз такой порядок успел пустить корни, народы перестают даже представлять себе возможность иного политического уклада. Весь их патриотизм воплощается в верности своему государю, и эта верность становится частью их религии. Не было человека, который в глазах других людей стоял бы так близко к божеству, как французский король в глазах французов ХIV столетия. Теперь большинство старых королевских династий исчезло, а те, которые еще живы, купили свое существование ценой глубоких перемен: они спустились с неба на землю, которая тоже не вечно будет носить их на себе. Историк не может питать безумной веры в воскресение этих мертвых, но на их надгробном памятнике он должен записать оказанные ими услуги. Только те народы достигли в новейшие времена величия, у которых были в средние века всеми признанные династии.
Чехия, Польша, Венгрия потеряли свою независимость потому, что они вверились случайностям королевского избрания, а тевтонское государство погибло потому, что управлялось корпорацией, которая была, так сказать, надставлена над немецкой колонией, а не государями, которые слились бы с народом в одну плоть и кровь.
В начале ХV века орден находится в очевидном разногласии со своими подданными. Эти подданные — крестьяне и горожане, свободные люди и вассалы, жившие в своих городах, деревнях и поместьях, определенных отдельными хартиями, — в конце концов почти слились в один новый народ. Сожительство на одной и той же земле, совместная служба в орденских войсках, общие промышленные и торговые интересы сблизили их друг с другом. Явилось две аристократии: одна городская, другая сельская, — и обе были очень недовольны своим повелителем. Купцы роптали на конкуренцию крупнейшего в стране купца — самого ордена, который иногда пользовался своей верховной властью в выгодах своей торговли. Так, например, запрещая вывоз зернового хлеба, себя он не считал связанным этим запрещением. Правда, превосходство торговой политики ордена, обогатившей его самого и весь народ, обусловливалось именно тем, что он был сам торговцем. Но его подданные, пожиная плоды этой политики, еще больше сердились на его конкуренцию. Недовольство, вызываемое жестокостью и безрассудностью правительства, не может идти в сравнение с неблагодарностью, которую порождают его благодеяния, если они не доводятся до полной меры. Кроме того, горожане и ленники возмущались тем, что ими правила чужеземная каста. Они стремились войти в состав ордена, но орден не мог дать им этого удовлетворения. Если бы он открыл доступ в свои ряды сыновьям бюргеров и прусских ленников, то недолго бы пришлось ждать, как они оказались бы и высшими сановниками, и гроссмейстерами. А что сказали бы на это рыцари Германии, Австрии и всех стран? Раскол тогда был бы неминуем. Ради самосохранения ордену надо было стать национальным прусским учреждением; но в то же время он обязательно должен был оставаться институтом универсального или, по крайней мере, общенемецкого характера, нерушимо соединенным с Германией, где он набирал своих членов и где обладал крупными имениями. Из такого положения выхода не было.
Против ропщущих горожан, против ленников, составлявших тайные общества, орден не мог искать опоры в низших классах. Монархия может быть демократической, но аристократия не может: эти два слова встречаются только как противоположение. Французский король любит маленьких людей, и маленькие люди любят французского короля, потому что большие люди настолько же ниже короля, насколько и маленькие, и потому что перед троном, так высоко поставленным, возникает нечто вроде всеобщего равенства. Король и народ имеют одного и того же врага — знать, и даже в минуты восстаний народ обрушивается на вельмож, а не на короля. «Когда Адам работал на поле, когда Ева пряла, — поют английские крестьяне, — где был дворянин?» Но стоит королю явиться перед ними — и они приветствуют его радостными кликами. Во Франции пастухи восстали при известии, что Людовик Святой в плену, и требовали вернуть короля. После Пуатье народный гнев обрушивается на дворян за то, что они на поле битвы не сумели защитить короля, и народ ждет своего спасения от освобождения короля Иоанна, который сам погубил все дело.
Рыцарская корпорация, набиравшая своих членов за границей, не могла внушить народу такой страстной преданности, и орден для своей защиты мог рассчитывать только на самого себя.
Но хватит ли у него сил устоять? В цвете своего благоденствия он внутренне слабел. Как ни широко разлиты были, по-видимому, в ордене монашеские добродетели во времена бедствий и борьбы, они не пережили этих времен. Распри, низложение Карла Трирского и Генриха Плауэнского, убийство одним из рыцарей Вернера Орсельнского показывают, что обет послушания был забыт. А возможно ли было хранить обет бедности среди таких богатств или даже просто соблюдать правила строгой воздержанности среди непрерывных торжеств, которыми то Мариенбург, то другие командорства чествовали знатных гостей, отправлявшихся в Литву? Один поэт ХIV века говорит, что в Мариенбурге деньги у себя дома. И пусть бы еще богат был один только орден, а каждый рыцарь оставался бедным! Но рыцари ХV века оставляют завещания — значит, у них было собственное состояние. Что касается обета целомудрия, то он нарушался на каждом шагу. В ХIV веке борьба против учения об умерщвлении плоти и порабощении духа, которая должна была в скором времени принять двойную форму возрождения и реформации, уже началась, и плоть везде внимала воззваниям к освобождению, но охотнее всего именно в Германии. Немец любит жить приятно и очень рано стал осмеивать аскетов, не скупясь на издевки над рыцарями. Последние, впрочем, не слишком давали к этому повод. Обет целомудрия казался им тяжким, и уже строгий Дуйсбург говорил, что для сохранения целомудрия нужна особенная милость Божия: «castus nemo postus esse, nisi Deus det». Одна пословица советует крестьянину, у которого есть дочери, хорошенько запирать двери при виде рыцарей. И нам известно, что, приезжая в города, эти люди, которым правила ордена запрещали целовать даже матерей, часто появлялись в своих белых плащах в таких кварталах, где цвет невинности был совсем не к месту. В начале
ХV века некрасивые похождения встречаются все чаще и чаще. В одном замке рыцари заперли и изнасиловали польских женщин. Один командор подарил своей любовнице дачу, за которую заплатил крупные деньги; другой казнил невинного, чтобы овладеть его женой. И скоро Длугош, рисуя портрет одного гроссмейстера, будет рассказывать, что тот неумеренно служил Бахусу и Венере: in Bacchum et Venerem parum temperatus. Так постоянно растет скандальная хроника ордена к великой радости его врагов, которые разносят ее по городам и деревням.
Другим предметом насмешек служило то, что рыцари были невежественны и считали невежество условием спасения души. Они никогда не были очень образованы, и, по-видимому, многие из них вступали в орден, не зная даже «Отче наш» и «Верую». По крайней мере, устав ордена давал новым братьям шесть месяцев на то, чтобы выучить важнейшую из молитв и символ веры. Но устав не обязывал рыцарей учиться, и если он дозволял брату, вступившему в орден с некоторым образованием, поддерживать свои знания, то, с другой стороны, неученым людям он предписывал такими и оставаться — конечно, во избежание того, чтобы рыцарь, сделавшись ученым, не бросил меча и не стал священником. Еще меньше терпел он в них дух философии. Один из братьев, герцог Нассауский, после тайного следствия и суда был приговорен к пожизненному заключению за то, что в нем проглядывал «дух сомнения».
Между тем, прусский бюргер в городах учился. Он посещал иностранные университеты; он знал, что повсюду возникает великое умственное движение возрождения и что оно — гордость Германии; с тем высокомерием, какое сообщает новичку первое знакомство с наукой, он презирал невежественных рыцарей и считал унизительным для себя быть под властью таких гроссмейстеров, которые не умели ни читать, ни писать.
Против недугов, на которые указывали подданные тевтонов, лекарства не было, так как недуги эти были органические. Основной устав не позволял ордену превратиться в пруссака. Он же запрещал допускать к управлению горожан и ленников, не желая, чтобы братья совещались с мирянами. Он же охранял и поддерживал невежество. Устав сковывал орден по рукам и по ногам, не давал ему шевельнуться. И в таком виде ордену предстояло столкнуться со всеми опасностями ХV века — эпохи окончательного падения великих учреждений средних веков. Старые услуги его были забыты, как то всегда происходит, и нечего по этому поводу ужасаться людской неблагодарности. Народы не могут быть благодарны наперекор своим интересам: они должны жить, и раз они встречают в своей жизни помеху, им нельзя ее терпеть. Было время, когда тевтонская крепость являлась защитой и убежищем, но в ХV веке она служит для колонистов местом развлечения и распутства. Граждане Данцига называют орденский замок Lupanar. Было время, в эпоху великих опасностей, когда прибытие белых плащей с черными крестами служило знаком близкого избавления от беды, а теперь, когда нечего больше бояться врага, когда соседи сами должны обороняться, рыцарь стал бесполезным лицом, которое нужно кормить, что стоит дорого. В одной прусской песне говорится: «Одеваться, раздеваться, пить, есть, спать — вот и вся работа господ рыцарей!»
Являясь кастой в своей собственной земле, орден был чужестранцем в христианском мире. Для объяснения причин его упадка нужно, несмотря на опасность повториться, напомнить еще раз, чем стали в ту пору папа и император, которые в ХIII веке послали и благословили тевтонов на завоевание. В начале ХV века в империи и в церкви — раскол: пап двое, а императоров трое. Папы-соперники предают один другого анафемам и отлучают от церкви, к великой радости язычников. «Выходит, — говорили в Литве, — что теперь у христиан два бога: коли один не простит им грехов, они могут обращаться к другому». Смущенные таким положением вожди христианского мира требуют сами реформы церкви. Но что за смута в умах простых людей! За грехи богачей и вельмож, говорят они, послано на нас это настроение; за них же идут на нас и другие беды, такие как страшная черная смерть. А она тогда нещадно истребляла европейское население и засыпала трупами улицы городов, оглашаемых жалобным воплем: «Kyrie eleison!» В народе исчезло всякое чувство уважения к высшим. В одном немецком городе публичные женщины отправляют депутацию в думу с жалобой на то, что дочери думских советников своим распутством подрывают их ремесло. Крестьяне и коммуны идут на рыцарей и побивают их. Фламандцы украшают церковь в Куртре восемью тысячами золоченых шпор, снятых с французских рыцарей. Швейцарские крестьяне, разбив австрийских рыцарей, поют: «Мы их здорово выпороли, и им от этого не поздоровилось». И даже прусский крестьянин начинает волноваться, так что орден вынужден запретить вооруженные сборища. Дух времени, который прежде выносил тевтонов на своих волнах, отступил от них, и, по любопытной превратности судеб, орден в ХV веке очутился в том же положении, в каком были в ХIII столетии истребленные им пруссы: он представлял собой исчезнувшую цивилизацию среди нового мира, являлся памятником прошлого, развалиной, готовой рухнуть при малейшем сотрясении.
Крестовые походы на Литву
Однако Тевтонский орден, по-видимому, до самого конца ХV века не терял прав на существование: война против языческой Литвы все еще продолжалась. О ней стоит упомянуть, так как история этой войны не только представляет любопытную главу в истории цивилизации ХV века, но и раскрывает всю сложность положения Тевтонского ордена, который для поддержания своего значения в свете вынужден был эксплуатировать безумство умирающего рыцарства. Из Германии и других христианских стран множество принцев, баронов и знатных искателей приключений стекаются в ХIV веке в Пруссию и оттуда идут на Литву. О сколько-нибудь серьезном намерении с их стороны обратить литовцев в христианство тут нечего и думать: их влекло любопытство посмотреть вблизи на этот орден, гордость рыцарства, владычествовавший в отнятой у неверных земле, а больше всего — погоня за сильными впечатлениями и интересными похождениями, рассказами о которых можно было бы потом занимать дам. Это рыцарство, не утратившее еще храбрости, но преисполненное хвастовства и щегольства, так же походившее на рыцарство ХIII века, как декламация на красноречие, избрало Литву полем своих турниров, а тевтоны торжественно распахивали перед гостями ворота арены.
Знаменитейшими из этих чередовавшихся в Пруссии гостей были: короли Оттокар и Иоанн Чешские, Людовик Венгерский, немецкие короли Карл IV, Гюнтер Шварцбургский, Рупрехт Пфальцский; героический Болингброк, который потом под именем Генриха IV вступил на английский престол, граф Варвик, два австрийских герцога, два голландских графа, француз Бусико, шотландец Дуглас и, наконец, незаурядный искатель приключений Освальд Волькенштейн, который десяти лет от роду покинул отцовский замок с тремя пфеннигами и куском хлеба в дорожной сумке и отправился пешком за рыцарями Альбрехта Австрийского, зарабатывая себе пропитание уходом за лошадьми и чисткой оружия. Он провел восемь лет в Пруссии, служа в орденских войсках, где развлекал рыцарей своими песнями. Затем он странствовал по Европе и Азии, сражался под Никополем, вернулся в Пруссию и вновь отправился в путешествие, распевая повсюду и сражаясь где можно.
Надо думать, что эти дальние походы проникли глубоко в рыцарские нравы. Многие немецкие песни начинаются словами: «Был однажды рыцарь, который поехал в Пруссию». Многие французские сказки сохраняют нам воспоминание о горестном положении рыцаря, который, приняв участие «в священнейшем походе в Пруссию», оказывался в положении обманутого супруга; а король Карл V, который не жаловал никаких безрассудств и которому нужны были его рыцари в борьбе против англичан, запретил ходить в Пруссию под страхом смертной казни.
Но эти крестоносцы ХV века разыгрывали настоящую пародию на крестовые походы. Вильгельм IV Голландский ходил три раза в Пруссию. Во время второго похода, в 1344 году, у него в свите было 38 рыцарей, 55 оруженосцев и толпа ремесленников и слуг, среди которых мы находим герольдов, живописца, портного и еврея, взятого для покупки лошадей, сукон и мехов.
Вильгельм встретился в Пруссии с Людвигом Венгерским и Иоанном Чешским, этим царственным авантюристом, который потом пришел умереть в наших рядах при Кресси. Стояла еще зима, и так как нужно было чем-нибудь занять время до похода, то они играли в кости по-царски. Иоанн выиграл у Людвига Венгерского 600 флоринов, т.е. около 30 000 франков на наши деньги. Когда бедный король стал сокрушаться о проигрыше, Иоанн взял червонцы и швырнул их народу, показывая этим, с каким презрением истинный рыцарь должен относиться к деньгам. В войске, с которым эти короли пошли в Литву, были три менестреля, уступленных на время гроссмейстером, а также гудочники, трубачи, плясуны, шуты, бирючи, гаеры. Впрочем, там были также и священники. Мы читаем, что Вильгельм Голландский хорошо заплатил своему капеллану Петру за разрешение не соблюдать постов.
Строго говоря, эти походы в Литву были просто разбоями, как это видно из описания похода, предпринятого в 1377 году герцогом Альбрехтом Австрийским, которое оставил нам поэт Петер Зухенвирт. Мы воспроизводим его здесь почти дословно.
В лето по Р. Х. 1377 доблестный герцог Альбрехт поднял крест против Литвы, чтобы получить достоинство рыцаря: ибо он справедливо думал, что золотые шпоры рыцаря гораздо больше ему пойдут, нежели серебряные шпоры оруженосца. Вместе с ним село на коней пятеро графов и множество рыцарей и оруженосцев. Такого прекрасного ополчения никогда не было видано: оружие и убранство на людях и на конях слепило глаза своим блеском. Ни одному городу, ни одной стране крестоносцы на своем пути не делают ни малейшего зла. В Бреславле герцог приглашает к себе на пир прекрасных дам; они нарядны, как лес в цветущем мае; и замок полон веселья, танцев и смеха. Другой праздник — в Торне, в Пруссии, где блещут алые уста и румяные щечки, жемчуг, венки и ленты. Танцам нет конца, и всё идет честь-честью. Оттуда ополчение направляется в Мариенбург, где живет гроссмейстер Винрих фон Книпроде. Благородный хозяин принимает герцога с полным парадом и щедро угощает гостей добрыми напитками и роскошными блюдами. Но особенно привольное и широкое житье, совсем как при дворах, пошло в Кёнигсберге. Благородный герцог открывает ряд празднеств обедом в замке. Каждая смена блюд возвещается звуком труб. На золотой посуде разносят горы жаркого и печений, в золотых чашах искрятся французские и австрийские вина.
Наконец начинаются сборы в Литву — ведь из-за нее гости и съехались. Маршал советует всем запастись съестными припасами на три недели, и все, не жалея денег, закупают даже больше, чем нужно. Гроссмейстер объявляет поход в честь австрийцев и Богоматери. На берегу Мемеля приготовлено 610 барок, и лодочникам приходится работать не покладая рук, от полудня до вечера. На другом берегу тысяча человек отправляется вперед, пролагая топорами путь среди зарослей, а войско движется за ними по равнине, изрытой рвами, ручьями и болотами. Ах, куда лучше скакать по венгерской равнине! А то тут только и знай, что слезай с лошади да опять на нее садись, прыгай через рвы да пригибайся к луке в лесу, где ветви так и норовят схватить всадника за ворот. Тут уже никому не до шуток и не до смеха. Пришла ночь; надо располагаться на ночлег. Нечего и говорить, что спать приходилось где попало, Но на другой день рыцари вступают в землю язычников и радостно пускают лошадей рысью. Впереди находится, по обычаю, Рагнитская хоругвь, затем хоругвь св. Георгия, за ней Штирийская, гроссмейстерская и Австрийская. И еще много других хоругвей реет в воздухе. Гордые христианские герои разукрасили шлемы венками и султанами; золото, серебро, драгоценные камни и жемчуг — дары благородных дам своим верным служителям — сверкают на солнце. Но вот, наконец, и деревня. Рыцари бросаются на нее, как гости, которых не пригласили на свадьбу, и открывают с язычниками «бал». Полсотни этих несчастных убито, деревня подожжена, и пламя высоко поднимается к небу. Тогда граф Герман Силли вынимает свой меч из ножен, потрясает им в воздухе, говорит герцогу: «Лучше быть рыцарем, чем оруженосцем» — и посвящает его в рыцари. Герцог, в свою очередь, вынимает свою шпагу и в честь святого христианства и Приснодевы Марии производит в рыцари всех, кто ему представляется. После этого начинается грабеж страны. Бог оказал такую милость христианам, что язычники дали захватить себя врасплох. Это им дорого обходится: их колют и режут. В округе было много людей и добра: сколько убытка для язычников, сколько поживы христианам! Ах, как тут было хорошо!
Ночь оказалась не так весела. Литовцы произвели нападение: приходилось получать удары, не видя врагов. Но зато слышно было, как они рычали, словно дикие звери. На другой день маршал выстроил войско; каждый встал под свое знамя в свой ряд. Язычники продолжали кричать в зарослях, но это им не помогло. Много их было перебито, много было забрано у них женщин и детей.
И смешно же было смотреть на этих женщин, у которых было привязано по два ребенка — один спереди, другой сзади, и на этих мужчин, которые шли отрядами, связанные друг с другом, будто на своре. День был удачен, и потому вечером затеяли веселый пир. Там без конца подавали гусей, кур, баранов, коров и мед. Пир длился до самого отхода ко сну. Чтобы не повторилась та же история, что накануне, маршал велел построить крепкую изгородь и расставил часовых, благодаря чему эту ночь можно было спать спокойно.
На третий день ополчение вступает в другой округ. Тут те же подвиги: язычников травят, как лисиц или зайцев, а вечером граф Герман Силли угощает герцога австрийского и новых рыцарей. Провизия для этого ужина была доставлена из порядочной дали. Был подан олень, затравленный за 200 миль от лагеря, и вина все были из Виппаха, Лютенбурга и Рейзаля.
Так прошла неделя. Целых три округа было опустошено. Дым от сожженных деревень застилал весь горизонт. Но тут настала непогода: пошли дожди с градом, провизия начала портиться, и, стало быть, об удовольствии не могло больше идти речи. Тогда ополчение трогается назад, к Мемелю, через овраги и болота. В Кёнигсберге рыцари и австрийцы, поздравив друг друга с успехом, расстаются, и приятно подумать, как все хорошо кончитя! В Ризенбурге герцог получает от герцогини известие, что у них родился сын. Какая радость для Альбрехта, у которого это первый ребенок! Вновь начинаются балы. В Швейднице герцогиня, сама родом из Австрии, устраивает царски щедрый прием: все даром, на свои деньги нельзя купить даже яйца. Дамы и девицы — верх любезности, и три дня проходят очаровательно. Но вот, наконец, и Австрия. «Всякому благородному человеку советую я служить св. Георгию и памятовать о словах: лучше быть рыцарем, чем оруженосцем, — если он хочет, чтобы хвала украсила его имя. Вот совет, который даю я, Петер Зухенвирт».
Рассказ старого поэта вполне сходится с показаниями, оставленными нам историками. Эта война, которую рыцари и их гости вели в Литве, была совершенно безопасна для них и беспощадна для литовцев. Против язычников все дозволено. Убивать не только мужчин, но и женщин, и детей; жечь жатвы и жилища — это значит, по тогдашнему выражению, вести войну в честь св. Георгия, exercere militiam in honorem sancti Georgii.
За этими походами следует настоящая торговля язычниками: благородные крестоносцы уводят пленников к себе домой, чтобы показывать их там, как невиданных зверей, а командоры, и даже гроссмейстер, своих пленных пускают в продажу. Некоторые пограничные чиновники прямо живут этой торговлей. Нужно повторить, что эти крестоносцы совсем не думают об обращении неверных. Герцог австрийский приехал в Литву только затем, чтобы заслужить рыцарские шпоры, а какими подвигами, это мы сейчас видели. Что касается тевтонов, то хотя и несправедливо упрекать их, будто они нарочно не хотели завоевывать Литву, но все же нельзя не признать, что они были очень рады иметь по соседству отъезжее поле для охоты на язычников. Время от времени, раз или два в год, чаще летом, но иногда и зимой, они приглашают к себе со всего христианского мира любителей приключений, чтобы вместе поохотиться. Они берут на себя заботу обо всем, не забывая и охотничьей закуски: с ними едет провизия, вино и посуда. Орден руководит походом, поддерживает дисциплину, посылает разведчиков, которые прокладывают дороги через леса, и понтонные отряды, которые строят мосты через реки. Каждый крестовый поход ему дорого стоит: гостей надо принимать на широкую ногу — делать им подарки, давать деньги взаймы, когда у них в кармане оказывается пусто, и выкупать их из плена. Но тевтоны охотно готовы на все эти жертвы, лишь бы у Европы не открылись глаза, лишь бы она продолжала верить, будто орден стоит пограничным стражем христианского мира. Самым действенным средством при этом служили те пышные торжества, которые он устраивал для благородных путников по возвращении их из походов на Литву. В великолепном шатре накрывался круглый стол, за который садились под звуки труб и цимбал десять признанных храбрейших рыцарей, и имена их прославлялись потом поэтами во всем христианском мире. Эти рифмованные рассказы так же воспламеняли мужество, как в былое время проповедь Петра Пустынника или св. Бернара. Благодаря всей этой комедии существование ордена продолжало казаться нужным. Но когда с обращением Литвы в христианство ему пришлось прекратить лицедейство, то у всей Европы явилась в голове та мысль, которую высказал Лютер: «На что надобны крестоносцы, которые не ходят в крестовые походы?»
Войны и усобицы. Падение ордена
Литва приняла христианство в 1836 году. В этой своеобразной стране был тогда князем удивительный человек, по имени Ягайло. Это был своего рода языческий философ, строгий друг правосудия, страстный охотник, поклонник лесов и пенья соловьев и вместе с тем храбрый и искусный воин. Но он не искал войны и жил в мире со всеми своими соседями, за исключением ордена, который беспрестанно вынуждал его браться за оружие. В этом язычнике не было ни капли фанатизма, у него рука не поднималась на миссионеров, и он поддерживал дипломатические сношения с римской курией. Его-то судьба и сделала великим государем, отметившим за Литву. После смерти короля Людовика поляки, не желая признать королем Сигизмунда Люксембургского, отправили посольство к своему соседу Ягайло, предлагая ему корону, если он согласится принять христианство. 15 февраля 1386 года этот язычник крестился. Три дня спустя он женился на Ядвиге, дочери покойного короля, а через несколько недель короновался. Вернувшись на родину, он загасил священный огонь, горевший в Вильно, перебил священных змей и занялся обращением своего народа в христианство. С литовцами дело пошло, как некогда с саксами: многие давали себя крестить из-за одних рубах, которые дарились новообращенным, и нужно было следить, чтобы чересчур рьяные не крестились по несколько раз для пополнения своего гардероба.
Для Литвы наступило то время, когда боги исчезают сами собой, и Ягайло — или Владислав Ягеллон, как он назвался, став христианином и польским королем, — не встретил серьезного сопротивления в своем народе. Он заставлял своих подданных толпами входить в ручьи, где их крестили, давая одно и то же имя всем мужчинам и одно и то же всем женщинам.
Таким-то путем Литва вступила в христианское общество. Несколько лет спустя Ягеллон сделал великим князем литовским своего двоюродного брата Витовта, который был ему верным наместником и союзником. Польша и Литва составили как бы одно государство, и их соединенные силы направились против тевтонов*.
Нет никакого сомнения, что великая война 1410 года была войной ненависти и мщения против немцев. Витовт желает их гибели и во всеуслышание об этом заявляет. Этот князь, власть которого над русскими и татарскими племенами простирается далеко в глубину русских равнин, является скорее ханом восточной орды, чем вождем христианского народа. Ему хочется загнать тевтонов в Балтийское море и там их перетопить. Что касается нового польского короля, то ему приходится снова поднять старый спор из-за Померелии. К тому же обнаружившиеся в тевтонском государстве смуты подстрекают его честолюбие. Ягеллон не дает пропуска через свои земли ни торговцам, ни солдатам, идущим в Пруссию, и множество постоянно возникающих мелких столкновений являются предвестниками решительной борьбы. Наконец, в июле 1410 года король и великий князь назначают местом своего свидания Пруссию, где и соединяются их армии. Мы накануне настоящей битвы народов: наряду с литовцами, поляками и наемниками из Чехии и других земель, мы встречаем в армии Ягеллона еще татар под предводительством их хана, как будто весь европейский Восток, затронутый немецким завоеванием, поднялся теперь против немцев. Язычники татары ведут войну беспощадно и возбуждают ужас жестокостью своих грабежей. Ягеллон поддерживает дисциплину, как может; два литовца, ограбившие церкви, присуждены, по обычаю страны, сами себя удавить. С приближением неприятеля предосторожности удваиваются. Военный совет запрещает кому бы то ни было опережать авангард, шедший под началом маршала Зиндрама, и трубить в рог; в армии должен раздаваться звук только королевского рога: по первому сигналу все встают, по второму — садятся на лошадей, по третьему — выступают. Утром 15 июля на пути к Танненбергу польский король узнает, что перед ним стоит тевтонская армия. Он дослушивает обедню, в то время как Зиндрам и Витовт ставят армию в боевой порядок, разделив поляков на 50 хоругвей, а литовцев, русских и татар — на 40 отрядов. На литовских знаменах красуется изображение коня, который некогда был священным животным литовцев, а на татарских — изображение солнца, которому они поклоняются и до сих пор.
По окончании обедни Ягеллон поднимается на холм, чтобы обозреть неприятельское войско. Тут он посвящает в рыцари нескольких поляков, опоясывая их золоченым поясом, исповедуется, не сходя с лошади, и надевает свой шлем. В это время являются к нему два орденоносных герольда с обнаженными шпагами и требуют у короля, чтобы он выбрал поле для битвы. Король отвечает, что он принимает то, которое указал Господь, и велит трубить в рога.
Литовцы, стоявшие на правом крыле, с яростью бросаются на тевтонскую армию. Тевтоны стойко выдерживают напор, и огонь их пушек производит страшные опустошения в рядах неприятелей, так что после часового боя они вынуждены отступить. Литовцы рассыпаются в разные стороны; многие бегут вплоть до Литвы, где распространяют весть о поражении Ягеллона. Небольшая часть польской армии тоже увлечена была в бегство. Знамя св. Георгия отступило, и даже королевское знамя пало на землю, но сейчас же поднялось. Дрогнувший центр устоял, а левое крыло и совсем не было тронуто. Между тем тевтоны рассыпались в погоне за литовцами. Видя бегство врагов Христа, они в радости запели победный гимн. Но, направив свои главные усилия против литовских отрядов, тевтоны расстроили свой боевой порядок и погубили все дело. В ту минуту, когда они, прекратив преследование, возвращались на свою позицию, Ягеллон ударил с фланга и смял их. Вскоре гроссмейстер вынужден был пустить в дело шестнадцать резервных хоругвей. Он сам повел их в центре польской армии, где король, как это решено было на военном совете, стоял в укреплении из обозных телег. Ягеллон хотел броситься в сечу, но один из приближенных схватил его коня за узду. Король отстранил смельчака своим копьем, но потом вспомнил, что не должен двигаться, и остался на месте. Он хотел по крайней мере двинуть свою гвардию в 60 «копий», но его гвардия осталась при нем. Тевтоны не могли прорвать укрепления; один из них пробился было до короля, но метким ударом копья королевский нотариус и будущий архиепископ Збигнев поверг этого смельчака мертвым к ногам короля. Тогда раздался приказ гроссмейстера двинуться направо, где находилось королевское знамя. Маленький геройский отряд бросился туда и был со всех сторон окружен. Гроссмейстер не стал просить пощады и пал почти со всеми своими офицерами.
Тевтонская армия была так расстроена, что никто не поддержал этой отчаянной атаки. Беглецы переполнили укрепление из повозок, расположенное над деревней Танненберг. Ягеллон запретил начинать преследование раньше, чем будет взят этот последний оплот. Через четверть часа и он пал. Тогда польский король переехал на холм, где накануне стоял гроссмейстер, и пред ним развернулась картина беспорядочного бегства тевтонов, на оружии которых играли последние лучи заходящего солнца. Много рыцарей было взято в плен, много потонуло в озерах. Краковский каноник Длугош, правдивейший из историков этого знаменательного дня, говорит, сам, впрочем, не очень этому веря, что прусская армия потеряла тогда 50 000 человек убитыми и 40 000 пленными. Эти цифры преувеличены, но поражение тевтонов было жестоко. Вечером после сражения уставший Ягеллон бросился под дерево в ожидании, пока приготовят ему палатку, и отдал приказ похоронить в маленькой церкви Танненберга тела командоров.
На другой день, во время обедни, вокруг походного алтаря польского короля развевались плененные тевтонские знамена. Весь день шестеро секретарей составляли список пленников, между тем как победоносные солдаты считали свою добычу и среди разливанного моря вина справляли тризну по Тевтонскому ордену.
Удар был страшен; но не от этого поражения суждено было умереть ордену. Правда, дальнейший поход победителя был сначала похож на триумфальное шествие. Ягеллон, избегая насилий, старался придать себе вид освободителя, и многие из подданных тевтонов охотно соглашались этому поверить. Пример покорности подали епископы, не любившие орден. Дворяне приняли дар обещанных им «польских вольностей», и в Данциге посла Ягеллона встретили с торжеством, под звуки труб и барабанов. Но достаточно было одному энергичному человеку оказать решительное сопротивление, чтобы изменить исход кампании. Генрих Плауэн стоял со своим наблюдательным корпусом на Померанской границе, когда до него дошла весть о разразившемся бедствии. Не теряя ни минуты, он бросился в Мариенбург и заперся в замке, сжегши предварительно город. Ягеллон не мог ничего сделать против этих геройски защищаемых стен. После двух месяцев блокады, бомбардирования и бесполезных штурмов он снял осаду и возвратился в свои владения. Польша показала еще раз свою неспособность к продолжительным усилиям. Опасаясь войны с Сигизмундом Венгерским, она заключила с тевтонами такой почетный для них мир, на какой те совсем не могли надеяться**. Но прием, оказанный завоевателям подданными побежденных, обнаружил, что старая корпорация носила в самой себе причины своего падения, которое было только ускорено внешней войной.
Генрих Плауэн, став гроссмейстером, отважился на очень смелый шаг для спасения ордена. Военные силы рыцарей крайне уменьшили; лучшая часть их осталась под Танненбергом, и во время первого своего военного смотра новый гроссмейстер увидел перед собой горсточку утомленных стариков да молодежь, которая, не видав лучших дней, вносила в поредевшие ряды дух беспокойства и беспорядочности. А между тем ослабевшему в такой мере ордену приходилось требовать от своих подданных крупных жертв. Для выкупа пленных и уплаты жалованья наемным войскам нужно было наложить огромные подати на полуразоренную нашествием страну. Тевтонские счета показывают, что барыши от чеканки монеты страшно возросли после битвы при Танненберге: значит, новая монета была плохого качества. И это явилось тяжелой прибавкой ко всем прочим обвинениям, выставлявшимся против рыцарей их прусскими подданными. Гроссмейстер задумал смягчить неудовольствие, предупредить сопротивление и заинтересовать народ в судьбе властителя тем, что наперекор уставу, запрещавшему братьям совещания с мирянами, предложил городским и дворянским депутатам образовать собрание прусских чинов. Но скоро он увидел, что прусский народ согласится на предлагаемый ему союз не прежде, как дождавшись удовлетворения всех своих требований. Когда вышел указ о сборе поголовной подати, Данциг отказался платить и выстроил перед замком башню, с высоты которой горожане наблюдали за тем, что в нем делалось. Башня эта называлась Kiek in de Kök, т. е. окно в кухню. Данцигскому командору, брату гроссмейстера, пришлось схватить и казнить несколько членов думы. Этой жестокости горожане никогда рыцарям не простили. Притом всё как бы сговорилось против Генриха Плауэна: чума свирепствует, урожай гибнет, а народ, недоверчиво относясь к новшествам, подозревает в гроссмейстере гусита. Дело в том, что Плауэн не любил попов. Когда прусские епископы, бежавшие после отступления польского короля, просили у него дозволения возвратиться, в силу обещанной амнистии, он отказал им, говоря, что не хочет отогревать на своей груди змей.
Между тем, Ягайло и Витовт не теряли из вида этих беспорядков. Первый грабит прусские границы и обирает захваченных на дорогах купцов; второй строит замок на тевтонской территории, и когда орден протестует, он отвечает, что считает себя вправе свободно распоряжаться на земле, искони принадлежавшей его народу. Знаменательное слово, которое следует запомнить. Оно показывает, что ужасное прошлое не забыто и что Витовт совершает дело народной мести.
Раздраженный всеми трудностями положения и вызовами врагов, Плауэн хочет снова начать войну, но у него нет власти даже над рыцарями. Великий маршал Штернберг не позволяет армии следовать за гроссмейстером. Плауэн созывает капитул, чтобы низложить мятежника; но вместо этого мятежник низлагает гроссмейстера и получает его место. Герой бедственных дней был низведен до степени простого командора и не мог снести своей беды. Вскоре открылось, что он ведет переписку с польским королем. Плауэн был брошен в тюрьму, где и провел 16 лет, жалуясь, что сторожа не кормят его досыта даже хлебом и ячменем***.
О какой же дисциплине может быть речь там, где подчиненный прогоняет начальника и герой кончает изменой? Дальнейшая история ордена представляет собой лишь зрелище долгой агонии. Тщетно ищет он защиты у императора, у папы и у соборов, которые в это время работали над водворением мира в церкви. Монархическая Европа ХV века не понимала больше этого старого аристократического учреждения. Папа запретил нападать на Литву с тех пор как Литва крестилась. Речь шла о том, чтобы переместить этих оставшихся без дела крестоносцев на Кипр или на Дунай, против турок. А тем временем славяне спокойно продолжали свою борьбу против немцев. Польский король вступил в союз с померанскими герцогами и даже с чешскими гуситами, ссылаясь на кровное родство. Поляки проповедовали в Пруссии ересь Яна Гуса; они утверждали, что Пруссия — польская страна, и, призывая себе на помощь филологию, доказывали это именами провинций и городов. Толпы гуситов, с остервенением истреблявших рыцарство и все немецкое, рассыпались по тевтонской территории. Монастырь Олива, из которого в ХIII столетии монах Христиан вышел для обращения Пруссии, был разграблен и сожжен, как бы в жертву теням погибших пруссов. Гуситы приветствовали Балтийское море чешскими песнями и наполняли свои фляжки водой из этого моря в знак того, что оно снова принадлежит славянам. Лучшим доказательством неизбежности разрушения ордена служит то, что даже такие опасности не могли возвратить ему внутреннего согласия. Гроссмейстер был на ножах с магистром Германии, который хотел занять его место. Рыцари нижней Германии не ладили со швабскими и баварскими. Чем дальше, тем больше народ отворачивался от этих властителей, которые не умели управлять даже сами собой и не оказывали никакой защиты своим подданным. Дороги не охранялись и кишели разбойниками. Сюда же присоединились еще бедствия, за которые орден не мог уже отвечать. Ганза, в состоянии полного разложения, допустила Кальмарскую унию и дала Скандинавии ускользнуть из своих рук. Наконец, в 1425 году сельдь покинула Шоненское побережье и перешла к берегам Голландии, где предстояло расцвести Амстердаму.
Немецкая колония решила свергнуть с себя иго рабства. Гроссмейстер Пауль Русдорф пытался, подобно Плауэну, опереться на дворянство и на города. Города заявили готовность его поддержать при условии, что он защитит их права и вольности от притязаний орденских должностных лиц. Русдорф не решился взять на себя такое обязательство. Тогда города предложили ему свою помощь для водворения дисциплины в ордене; но он не мог принять никакого решения, опасаясь дать магистру Германии желанный повод занять место гроссмейстера. Тевтонский орден был в полном разложении. Тогда в феврале 1440 года города и часть прусского дворянства образовали лигу в самом Мариенбурге. Члены ее сначала говорили только о сохранении за каждым его прав, затем выбрали из своей среды совет и завели свою особую казну. Таким образом, выросло государство в государстве. Союзники обнаружили свои намерения тем, что после избрания Конрада Эрлихсхаузена выразили покорность уже не ордену, а лично гроссмейстеру. Его брату и преемнику Людвигу Эрлихсхаузену они и совсем было хотели в ней отказать, так что ему пришлось обещать расширение привилегий штатов. В такой крайности папство и империя приняли, наконец, участие в горькой судьбе ордена. Но у этих старых, одряхлевших властителей не нашлось ничего, кроме слов, для защиты своего погибавшего ровесника. Папа и император объявили лигу противной законам божеским и человеческим. В ответ на эту ссылку на право былых времен лига громко провозгласила свое право — новое право народов располагать собой по своему усмотрению. 4 февраля 1454 года дворяне и города подписали акт своего освобождения, а пристав Торнской Думы свез его немедленно в Мариенбург.
Вслед за этим начинается война горожан против замков. Торнские жители берут приступом и сжигают свою почтенную крепость, одну из первых построенных в Пруссии вековую защитницу города.
В течение нескольких недель 54 плохо защищавшихся замка попадают в руки мятежников, которые для завершения дела обращаются к польскому королю. Казимир IV праздновал в Кракове свою свадьбу, когда к нему явились депутаты от ордена и от лиги. На открывшихся перед королем прениях тевтонские депутаты, за которых стояли также папские легаты, ссылались на то, что по последнему договору орден и король взаимно обещали друг другу не поддерживать мятежей их подданных. Но члены лиги предложили признать суверенитет польского короля и пригрозили в случае его отказа отдаться чешскому королю. Казимир в присутствии гнезненского архиепископа принял от прусских депутатов присягу учредил воеводства в Торне, Эльбинге, Данциге и Кёнигсберге, освободил города и дворян от всяких повинностей, запретил восстанавливать разрушенные замки и объявил войну тевтонам. 23 мая 1454 года он торжественно вступил в Торн; затем отправился в Эльбинг принять присягу от епископов, дворян и городов. Можно было бы думать, что орден завершил свое существование. Однако война продолжалась еще 13 лет. Она тянулась без решительных действий, являясь в то же время усобицей, так как в каждом городе были враждебные партии. В Кёнигсберге три квартала дрались на реке, которая их разделяла; в Данциге патриции нещадно истребляли ремесленников. Лига обвиняла поляков в медлительности и выходила из терпения, глядя на то, как долго держатся тевтоны и их наемники. Рыцари действительно держались только с помощью этих солдат, набиравшихся из всех стран света. Наконец, когда у рыцарей не стало денег на расплату, они вынуждены были отдать наемникам в залог Мариенбургский замок. Вступив туда, эти бандиты, в большинстве случаев являвшиеся гуситами, натешились там вволю. Они забрались в кельи, обрезали длинные бороды старым рыцарям, которых там нашли, и погнали их ударами кнутов на кладбище.
Гроссмейстер спасся в лодке и по Ногату бежал в Кёнигсберг, где Дума, за оказанное им городу доверие, прислала ему в подарок бочку пива. Наемники выдали замок королю Казимиру — он явился туда праздновать Троицын день.
Пора было заговорить о мире. Богатейшая прежде страна была так разорена, что, по словам одного современника, с высоты городских стен не видать было нигде деревца, к которому можно было бы привязать корову. Сами «изменники Госпоже нашей Деве Марии» плакались польскому королю на нищету, до которой они были доведены. Когда завязались переговоры, у ордена были уже отняты, Померелия и западные провинции. Переговоры показали еще раз, что тевтонское государство было погублено своими внутренними распрями, а не внешней силой. На съезде во Frische Nehrung прения шли не между орденом и королем, а между врагами ордена и его приверженцами. Байзен, сторонник короля, препирается с Штейнгауптом, бургомистром Кёнигсберга, оставшегося верным тевтонам. Любопытно видеть, с каким напряжением эти братья-враги ищут средства к соглашению ради того, чтобы обеспечить немецкой колонии, по крайней мере, общее управление. Останемся все вместе под властью одного государя, говорил Байзен; король станет покровителем и сюзереном ордена, за которым сохранится часть его владений. Штейнгаупт отвечал, что те, кто проливал кровь за орден, не позволят отделить себя от него. Он советовал членам лиги не слишком полагаться на короля, который сейчас же забудет все свои обещания, как только рыцари лишатся своих владений. В ответ на это члены лиги советовали друзьям ордена не пренебрегать покровительством короля, так как гроссмейстеру может понадобиться его помощь для того, чтобы держать в повиновении самих же орденских сановников. Предметом долгих обсуждений служило следующее предложение: польскому королю уплачивается вознаграждение за военные издержки; орден сохраняет свою независимость и верховную власть, но принимает другое устройство, при котором колонисты получают одинаковые права с рыцарями, вплоть до участия в избрании гроссмейстера. Тевтонское государство тогда осталось бы немецким, и это было бы счастливым исходом после стольких бедствий, «ибо, — говорили сторонники тевтонов, — нехорошо быть под управлением людей, которые не родились немцами».
Это заклинание именем родины доказывает, что обсуждавшие свою участь колонисты понимали всю важность предстоявшего им решения. Они колебались между патриотизмом и любовью к независимости. Последнее чувство взяло верх. Когда в 1466 году в Торне возобновились прервавшиеся было на короткое время совещания, то именем вечного мира освятились результаты Тринадцатилетней войны, т. е. поражение ордена и раздел страны. Польша получила в полное владение страну на западе от Вислы и Но- гата, где лежали Мариенбург, Эльбинг и Данциг, затем Кульмерланд, с Торном и Кульмом, и Эрмланд, врезавшийся углом в оставленные ордену в качестве польского лена провинции. Договор постановлял, что гроссмейстер, орден и его территория навсегда соединяются с королевством польским, образуя с ним одно тело, одну семью и один народ, живущий в дружбе, любви и сердечном согласии; что гроссмейстер будет заседать на польском сейме по правую руку от короля, как польский князь и советник. Трудно найти другой договор, который звучал бы с такой иронией. И со слезами на глазах явился гроссмейстер в Торнскую ратушу приносить присягу своему королю.
* Ягайло и Витовта сблизила главным образом их общая борьба против Тевтонского ордена. В других отношениях они, как известно, долгое время являлись сначала непримиримыми врагами, а затем ревнивыми соперниками, Витовт силой вырвал у Ягайло сан великого князя литовского, не остановившись ради этого даже перед союзом с орденом, и под конец жизни мечтал о превращении Литвы в независимое королевство. (Примечание переводчика).
** По первому Торнскому миру (1 февраля 1411 г.) польский король возвратил ордену все завоеванные замки. Орден, со своей стороны, уступил Витовту Жмудскую землю, с тем, однако, условием, что по смерти Витовта и Ягайло она снова отойдет к ордену, и обязался уплатить Польше 100 000 марок за выкуп пленных и военные издержки. (Примечание переводчика).
*** Он был, наконец, освобожден из заточения гроссмейстером Русдорфом. После смерти похоронен в Мариенбургской капелле рядом со своим счастливым соперником Штернбергом. (Примечание переводчика).
Вторичное торжество германского элемента в Пруссии
Если мы примем во внимание, что Польша начала враждебные действия против ордена в 1454 году, в тот момент, когда турки только что водрузили полумесяц на Софийском соборе, и что одно из христианских государств вело такую беспощадную войну с тевтонскими крестоносцами в то самое время, как папа Пий II тщетно оглашал Италию своими воззваниями к государям и народам, приглашая их подняться на магометан, то становится ясно, что бедствия ордена и всеобщее к нему равнодушие являются одним из многочисленных признаков окончания средних веков. Родившись в то время, когда христианство было сильно, объединялось под властью своего духовного главы и cамо вело наступательные действия против неверных, орден падает, когда неверные одолевают разъединенных христиан, которым приходится думать только о защите своих исконных владений. Но особенно важной датой служит падение ордена в истории борьбы немцев со славянами. Польша выиграла, наконец, битву за Помереллию. Она пресекла сообщения между германским авангардом и центром. Немцы одновременно отступают повсюду: на правом берегу Эльбы шлезвигское дворянство признало короля датского герцогом шлезвиг-гольштейнским; торговлю на Балтийском море отнимают у Гаты скандинавы, наряду с которыми выступает затем русский народ.
Москва овладевает Новгородом, и напротив немецкого города Нарвы возникает Иван-город. Венгрия и Чехия, запутавшиеся было в сетях немецкой политики, освобождаются из них и при Подебраде и Корвине начинают свою национальную жизнь.
Чтобы понять дальнейшую историю этой борьбы двух рас, нужно с особенным вниманием присмотреться к тому, как вел себя среди таких запутанных обстоятельств курфюрст бранденбургский Фридрих Гогенцоллерн. Здесь найдут оправдание сказанные нами в начале наших очерков слова, что знание этой старой истории необходимо тому, кто хочет понять причины важнейших современных событий. Бранденбург нашел, наконец, вновь то, что было им утрачено с прекращением Асканийского дома, т.е. национальную династию. Асканийское наследство очень уменьшилось, но Гогенцоллерны питали твердую решимость собрать его и приумножить. Припомним, что тевтоны, в пору своего могущества и процветания, присоединили к себе Новую марку и сохранили, таким образом, для Германии это приобретение немецкого оружия. Целью честолюбия Фридриха было воротить назад эту страну, которой теперь угрожала Польша. Он один оставался союзником ордена в минуту его невзгод. Гроссмейстер и маркграф чувствовали себя связанными общностью своих интересов; ввиду одинаковой опасности от успехов славян они оба были истинными немецкими патриотами. Стоя на краю гибели, гроссмейстер заклинает маркграфа покрыть себя неувядаемой славой во всем дворянстве, не дав врагам выгнать рыцарей из Пруссии. И в тот самый день, когда король Казимир объявил войну ордену, тевтонский гонец отправился к Фридриху с договором, по которому тот получал Новую марку в обеспечение займа в 40 000 флоринов. Да и пора было. Польская пропаганда уже началась и там: Казимир обещал городам и дворянству польские вольности. И когда орденский посол явился в церковь во Фридберге, где были собраны штаты для утверждения договора, то дворяне и горожане еще подумали, прежде чем высказаться .за свое присоединение к Бранденбургу, т.е. к Германии.
Фридрих был слишком слаб и беден, чтобы спасти тевтонов. Он пытался предложить свое посредничество и добился того, что император послал его своим уполномоченным в Пруссию. Но его старания примирить штаты с орденом были напрасны, и он должен был повернуть назад, в свое курфюршество, причем наемники произвели обыск его экипажей в удостоверение того, что он не увозит с собой мариенбургской казны. Тогда он стал хлопотать о займах для ордена. Датский король, по его настояниям, обещал отправить флот к устью Вислы, чтобы принудить прусские города отделиться от польской лиги. Курфюрст умолял императора послать 3000 всадников, к которым он хотел присоединить свои войска, чтобы осуществить диверсию в Польше. Император его не услышал, датский король не сдержал обещания, и судьбы свершились. Но эта заботливость немецкого маркграфа о немецких рыцарях давала надежды на будущее.
Действительно, Бранденбургу суждено было отомстить за тевтонов. В первых же строках этих очерков было отмечено любопытное сцепление фактов. Там говорилось, как один из Гогенцоллернов, Альбрехт Бранденбургский, избранный в 1511 году гроссмейстером, принял реформацию, секуляризировал оставшиеся за рыцарями по Торнскому миру владения и стал наследственным прусским герцогом; как по прекращении этой новой герцогской династии, лет через сто после ее основания, бранденбургские Гогенцоллерны наследовали своим прусским родичам; и как, наконец, история Тевтонской земли слилась с историей прусского государства. Значительная часть истории этого нового немецкого государства состоит в требовании возврата захваченных Польшей земель. Но чтобы требование это было уважено, нужно было много времени и усилий. Долго прусский герцог являлся очень незначительным лицом в кругу владетельных особ. Сейчас же после своего избрания гроссмейстером Альбрехт Гогенцоллерн попытался свергнуть с себя вассальную зависимость от польского короля, считая, что имперскому князю не подобает быть вассалом чужеземца. Он рассчитывал при этом на помощь, которую ему обещал германский император Максимилиан Австрийский, и надеялся пробудить в старой германской корпорации гордость и патриотизм былых времен. Расчеты эти, однако, не оправдались. Австрия была слишком занята своими собственными делами, а Германия прислала на помощь гроссмейстеру в его войне с Польшей только несколько шаек авантюристов, в числе которых находился сын Франца фон Зиккингена, «последнего из рыцарей». Потерпев поражение, Альбрехт Бранденбургский поехал искать новой помощи. Тогда-то он встретился с Лютером и от самого реформатора услыхал проповедь нового учения.
Между тем реформация сама собой делала такие же успехи в Пруссии, как и в коренных немецких землях. На Рождество 1523 года в Кёнигсбергском соборе епископ возвестил верующим «радостную весть, что Господь родился в другой раз!»
Год спустя в Пруссии появилась первая типография. Веяние нового времени приносило быстрые успехи. Сами рыцари являлись на протестантскую проповедь, и когда на гроссмейстера снизошел свет — столько же от проповеди Лютера, сколько от собственного честолюбия — и он решился секуляризировать свои владения, то ни с чьей стороны он не встретил серьезных препятствий. Но гроссмейстер не стал от этого независимым: герцог должен был получить утверждение в своем новом сане от польского короля, который был не то, что обыкновенный сюзерен, даже после того, как курфюрсты бранденбургские сделались герцогами прусскими. Этот сюзерен потребовал, чтобы на груди черного орла в герцогском гербе — того орла, которого некогда император Фридрих пожаловал гроссмейстеру Герману фон Зальца и который вызывал такие великие воспоминания, — красовалась начальная буква имени польского короля. Он так свободно распоряжался в герцогстве, дворянство которого было ему предано, что созывал даже сеймы, не спросясь герцогов. В угоду этому дворянству, которое держалось строгого лютеранства, он объявил в Пруссии опалу на кальвинизм, не обращая внимания на то, что курфюрсты-герцоги сами были кальвинистами. Когда в 1640 году умер герцог Георг-Вильгельм, то сыну его пришлось просить у польского двора особого разрешения на похороны отца по кальвинистскому обряду. А сын этот был Фридрих-Вильгельм, Великий курфюрст, т.е. государь, который основал современное прусское государство, уничтожив дух областной обособленности в своих владениях, рассеянных между Вислой и Рейном. После него Клеве, Бранденбург и Пруссия стали членами одного тела, управляемого одной головой. Побежденная им Польша должна была отказаться от верховной власти над Пруссией. И когда сын Великого курфюрста захотел стать королем, то главным доводом в пользу своих прав на это он выставил указание, что вне Германской империи у него были владения, где над ним не стояло другого сюзерена, кроме Бога.
Таким образом, по истечении двух веков часть тевтонской земли снова вошла в состав одного из германских государств. Но два крупных ее отрезка оставались в чужих руках: то были восточные провинции, т.е. древние владения меченосцев, которые, отделившись от ордена после потрясений ХV века, мало-помалу поглощены были необъятным Московским государством, и западные провинции, отошедшие по Торнскому миру к Польше. Эти последние вскоре вполне ополячились.
Данциг, оставшийся почти совсем вольным городом, получает от короля в виде милости право поместить на своем гербе королевскую корону. В других местах страна еще быстрее утратила свой немецкий характер. Люди и города принимают польские имена: Кульм становится Хелмно, а Мариенбург — Мальборком.
Привилегиями своими, обеспеченными за ними по Торнскому миру, провинции эти почти не пользуются, а в конце ХVI века они и совсем входят в состав польского королевства. Их депутаты не образуют больше отдельного собрания, а заседают в польском сейме.
Но все это не помешало Фридриху II снова наложить руку на старую тевтонскую землю. Правда, когда он ее себе потребовал в 1772 году, то не ссылался при этом ни на какие права, перешедшие к нему от ордена, и в оправдательной записке, обнародованной им после захвата польской Пруссии, об ордене не упоминается ни одним словом. О нем не поминали ни в тот день, когда генерал Тадден явился перед воротами Мариенбурга, ни в тот, когда король принял в этом городе присягу от депутатов провинции. Фридрих не любил средние века; их учреждения и их памятники были ему одинаково противны, и Мариенбургский замок пришел в окончательный упадок в его царствование. Эта страна была для него просто пахотной землей, обладание которой обеспечивало за ним устья Вислы и свободу сообщений между его немецкими и прусскими провинциями. Но волей-неволей философ из Сан-Суси явился продолжателем этих варваров-рыцарей. Только благодаря тому, что они колонизировали правый берег Вислы, Фридрих I стал королем, а Фридрих II принял участие в разделе Польши. Правы современные немецкие историки, говоря, что между гроссмейстерами былых времен и прусскими королями наших дней существует преемственность и внутреннее сродство и что прусская монархия, несмотря на свой поразительно быстрый рост за последние годы, не может считаться государством-выскочкой. Двум этим последним векам предшествовало долгое историческое развитие, и, как говорит Трейчке, на прекрасную работу которого мы уже раньше ссылались, для понимания глубоких внутренних свойств прусского народа и государства необходимо хорошо знать только что рассказанную нами историю беспощадных войн. Пруссак, часто сам того не подозревая, сохранил следы их на всем своем характере, привычках и жизни.
Однако задача отнять некогда колонизированные немцами земли, которую, по-видимому, поставило перед собой прусское государство, еще не доведена до конца: остзейские провинции остаются еще в руках России.
Небезынтересно заметить по этому поводу, что упомянутый нами выше писатель, представлявший собой в то же время очень авторитетного политического деятеля, бывший одним из корифеев национально-либеральной партии в литературе и в парламенте, довольно резко высказывает чувство патриотического сожаления, когда ему случается говорить об остзейских провинциях. Он проклинает ужасную войну Ивана Грозного с ливонскими рыцарями и ясно намекает, что на Петра Великого и Екатерину, подчинивших русскому скипетру «немецкое насаждение», надо смотреть как на узурпаторов. Он сожалеет, что Ливония и Эстония не называются по-старому герцогствами и что германское население в них убывает: из общей цифры в два миллиона сто тысяч на него приходится теперь только двести тысяч. Правда, в его глазах эти двести тысяч стоят больше всего остального. «Из этих провинций, — говорит он, — ежегодно отправляется множество народа в глубину России, неся с собой туда немецкую культуру». Наконец, заветные его помыслы сквозят в той радости, с какой он указывает, что за последние годы немецкая педагогика и лютеранская церковь снова стали делать завоевания в Ливонии. Не думает ли он, что дело Альбрехта Бранденбургского, великого курфюрста и Фридриха Великого не доведено до конца и следует его закончить? Что после вотчины тевтонов остается отвоевать и наследие меченосцев? Да, конечно, и балтийские провинции представляют собой в его глазах «немецкую колонию, которой угрожают русские». Но это лишь фантазия ученого: преемники маркграфов и гроссмейстеров давно перестали стоять грудью на восток, и, прежде чем отвоевывать остзейские провинции, им следовало бы обратить побольше внимания на саму прусскую область, которая была колыбелью их монархии. Трейчке жалуется, что эта страна никогда не смогла больше достичь такого благосостояния, каким она пользовалась до Танненберга, а Вебер в заключении своей книги «Пруссия 500 лет тому назад» повторяет ту же жалобу еще с большей горячностью. Он выказывает даже неблагодарность к самому Фридриху Великому, забывая о стараниях этого государя заселить Пруссию. Но он справедливо упрекает берлинское правительство за то, что после наполеоновских войн оно оставило эту жестоко пострадавшую страну задыхаться под тяжестью вызванных ими непомерных налогов. Большие города, говорит он, и сейчас еще не успели совсем расплатиться со своими долгами; провинция долгое время стояла на краю банкротства; земля потеряла свою ценность — до 1807 года она стоила дороже в Пруссии, чем в Бранденбурге и в Померании, теперь она ценится дешевле, хотя по качеству, несомненно, выше. Плохое экономическое состояние страны дает себя чувствовать в эмиграции, которая увлекает множество народа из этих провинций и представляет резкий контраст с иммиграцией былых времен.
Сожалеть о том, что Пруссия не пошла дальше на пути возвращения территории старых немецких колоний, и в то же время признавать, что она совсем не заботится о присоединенных частях этой территории, — разве это не явное противоречие? Разве Трейчке не ясно, почему остзейские провинции остались за русскими и почему орденская земля в таком забросе? Оба явления имеют одну причину.
Есть верное замечание, что со старой тевтонской страной ее властители стали хуже обращаться со времени превращения Пруссии в королевство. Дело в том, что Пруссия, сделавшись великой европейской державой, покинула узкое поприще прежней своей деятельности, гордо и славно бросилась на арену европейской политики.
Она поступила так же, как Австрия в ХVI веке. Австрия тоже началась с марки; она защищала немецкую границу против славян и венгров, как маркграфы и гроссмейстеры защищали ее от славян и литовцев, и как они, отодвинула эту границу к востоку. Достигнув ранее, чем бранденбургские маркграфы, крупного политического значения, австрийские государи стали германскими императорами и вместе с тем вышли из своих прежних пределов, чтобы с высоты своей вавилонской башни, построенной разноязычными народами, управлять Германией и целым миром. Но они потратили все свои силы и потеряли господство и над Германией, и над миром.
Любопытно теперь наблюдать историку, как им пришлось возвратиться к прежней своей роли защитников германских интересов в долине Дуная. Всемогущество Пруссии привело их к этому. Но сама Пруссия с того дня, как ее короли появились на главной политической сцене, тоже отвратила свои взоры от востока, направив их на Германию и на долину Рейна. С конца прошлого столетия преемники северных маркграфов сделались западными маркграфами, и главными их врагами являются не славяне, а мы, французы.
Никто, конечно, не станет утверждать, что для Пруссии неизбежна участь Австрии. Строение ее проще и крепче, чем было когда-либо строение ее соперницы. И далеко, без сомнения, то время, когда она пожалеет, что покинула прежнюю почву, где медленно, но надежно развивался ее рост. Но тому, кто восходит так далеко в прошлое, как это только что сделали мы, можно заглянуть поверх современного положения дел в далекое будущее, и это знакомство с прошлым позволяет предположить, что придет день, когда преемникам маркграфов и гроссмейстеров трудно окажется управлять Германией и с успехом охранять одновременно и Мозель, и Неман.
_________________
Все три издания «Очерков по истории Пруссии» Эрнеста Лависса можно найти и приобрести на букинистическом сайте alib.ru.